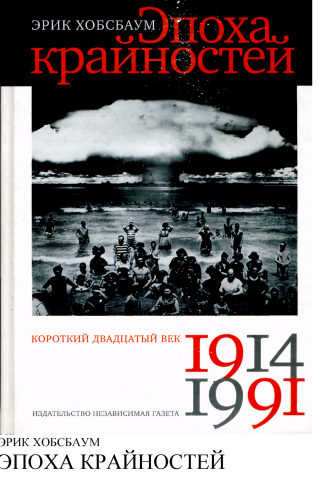 Читать эту книгу Эрика Хобсбаума, надо, конечно, полностью, он один из классиков (автор знаменитой трилогии про «длинный 19-й век»). Я лишь отмечу места, которые были для меня новыми, неожиданными, интересно удивили (далее закавычены). Или, наоборот, дали фактическое подтверждение моим мыслям, которые до этого были лишь мнением, а не знанием.
Читать эту книгу Эрика Хобсбаума, надо, конечно, полностью, он один из классиков (автор знаменитой трилогии про «длинный 19-й век»). Я лишь отмечу места, которые были для меня новыми, неожиданными, интересно удивили (далее закавычены). Или, наоборот, дали фактическое подтверждение моим мыслям, которые до этого были лишь мнением, а не знанием.
1. «Введение» даже начал планирования (включая расчёт в натуральной форме) в экономиках, до того бывших заповедниками рыночной стихии, исключительно благотворно сказалось на здоровье с благополучием низших классов, и сделало первый шаг к уменьшению пропасти, отделявшей «простой народ» от «чистой публики».
«… среди плановых экономических систем эпохи тотальных войн военные экономики западных демократий — Великобритании и Франции в Первую мировую войну, Великобритании и США во Вторую—значительно превзошли Германию с ее традициями и теориями рационально-бюрократического управления… Жители Великобритании и Франции, пережившие Первую мировую войну, стали даже относительно более здоровыми, чем прежде, хотя и несколько обеднели, однако реальный доход рабочих этих стран повысился.
… Аналогичные сравнения по результатам Второй мировой войны затруднительны, поскольку Франция очень скоро сошла со сцены, США были богаче и испытывали гораздо меньшие трудности… Военная экономика Германии эксплуатировала всю Европу, но завершила войну, понеся гораздо больший ущерб, чем западные страны. Благодаря плановой военной экономике, ориентированной на равенство, самопожертвование и социальную справедливость, более бедная в целом Великобритания, чье потребление на душу населения к 1943 году снизилось на 20%, закончила войну с более благоприятными показателями питания и здоровья населения.
Что касается немецкой системы, то она была несправедлива в самой основе. Германия эксплуатировала ресурсы и рабочую силу всей оккупированной Европы и обращалась с негерманским населением как с низшей расой, а в некоторых случаях (с поляками, а главным образом с русскими и евреями) — фактически как с рабами, о выживании которых едва ли стоит заботиться. Число иностранных рабочих в Германии постоянно росло и к 1944 году составило пятую часть рабочей силы страны (зо% из них было занято в военной промышленности). Но даже при таком положении дел местный пролетариат мог похвастаться лишь тем, что его реальные заработки остались на уровне 1938 года.
В Великобритании детская смертность и общий уровень заболеваемости населения во время войны пошли на спад. А в оккупированной и порабощенной Франции, традиционно славившейся своими продовольственными богатствами и после 1940 года в войне не участвовавшей, средний вес и выносливость населения всех возрастов понизились».
Понятно, это случилось в связи с задачами 1-й мировой войны; второй шаг был сделан между 1935 и 1945 г., когда из страха перед распространением коммунизма и привлекательностью советского опыта возникло «социальное государство».
То есть даже минимальная прививка плановых начал и ограничение рыночной стихии исключительно благотворно сказывается на «народе», в т.ч. потому что «чистой публике» приходится несколько умерить аппетит, а интересы тех и других строго противоположны. И особенно сильное увеличение здоровья, физического благополучия, образовательного статуса низших классов имело место во Франции с Великобританией, т.е. в странах, которые не испытывали проблем с продовольствием, в отличие от блокированной и воюющей на два фронта Германии. Поскольку в ходе войны и сразу после неё продовольственные ресурсы всех стран как минимум не увеличились по сравнению с довоенным уровнем, но выросло благополучие низших классов, у которых основная статья расходов — это еда, то естественен вывод, что их бедственное положение до войны прямо связано с капитализмом.
С тем самым минусом (и виной) капиталистической системы, что молоко, нужное ребёнку бедняка, достаётся собаке богача, а правительство предпочитает развязать войну или резню на национальной почве, чтобы отвлечь трудящихся от социального протеста, но не удовлетворить требования протестующих, хотя это куда как дешевле.

Похоронная процессия прежде небывалого для Мюнхена масштаба провожает убитого Курта Эйснера на Восточное кладбище
2. Я давно удивлялся: почему, несмотря на английские корни немецкого нацизма, эта милая идеология не одержала победы на своей исторической родине, имея к тому все необходимые предпосылки? А из Хобсбаума узнал возможный ответ – первая мировая война сильно убавила количество золотопогонников; соответственно, сократив тот человеческий материал, из которого наиболее вероятно выковываются фашисты.
«Англичане потеряли целое поколение—полмиллиона мужчин до тридцати лет (Winter, 1986, р. 8з), главным образом среди высших слоев общества. Юные джентльмены, долг которых призывал их стать офицерами и подавать пример мужества, шли в бой во главе своих солдат и гибли первыми. Была убита четверть оксфордских и кембриджских студентов до двадцати пяти лет, служивших в британской армии в 1914 году (Winter, 1986, р. д8). Немцы, хотя число их убитых было даже больше, чем у французов, из своей гораздо более широкой призывной возрастной группы потеряли убитыми не так много».
В самом деле, бывший офицер (или полукриминальный деятель, у кого война была «высшим переживанием»), насмерть испуганный «красной опасностью» в 1918-1919 гг., классический тип фашистского активиста. Как и будущий разорённый лавочник при депрессии; тем более что и военным обучением в рождающихся фашистских организациях руководили именно подобные ветераны, а в английском обществе их было существенно меньше.
Тем более что в Англии офицерство относилось к аристократии, между ним и даже средними классами была пропасть, в отличие от германской империи, где приснопамятный прусский лейтенант был вполне себе массовым и народным типом. После 1918 подобная «связь с народом», созданная прусской системой военной подготовки, обеспечила постоянный подток кадров к нацистам и ультраправым, в Англии же этого не было.
3. Хобсбаум чётко показывает, какой общественный слой был социальной базой нацизма — предприниматели и лица либеральных профессий + их младшие родственники-студенты, т.е. хозяева и хозяйчики среднего класса. Он же показывает, что социальную базу движения лучше всего определять не по социальному составу партии в целом, ведь в любой партии есть актив и пассив, тем более что в нацистской с её фюрер-принципом активность проявляли немногие а прочие им подчинялись. Лучше всего это делать по социальному составу депутатов, выдвинутых на местных выборах (особенно тех из них, кто был избран) до момента взятия власти. Поскольку эти лица есть некий ориентир и для партии, как минимум на местном уровне, и они же как минимум не неприемлемы для общины.
«Начиная с 1960-х годов западная ксенофобия и политический расизм встречаются главным образом в общественном слое, занимающемся физическим трудом. Однако в десятилетия, когда фашизм еще только зарождался, его исповедовали те, кто не пачкал свои руки тяжелой работой. Средняя и мелкая буржуазия являлась главной составной частью подобных движений в период становления фашизма. Этот факт не подвергают сомнению даже историки, стремящиеся пересмотреть традиционные представления о том, кто именно поддерживал нацистов в период между 1930 и 1980 годами… Возьмем всего лишь один случай из многих, чтобы показать состав таких движений и тех, кто оказывал им поддержку. В Австрии в период между мировыми войнами из национал-социалистов, избранных в качестве депутатов районных советов в Вене в 1932 году, 18% имели собственные предприятия, 56% были инженерно-техническими работниками, служащими и государственными чиновниками, а 14% составляли промышленные рабочие. Из числа нацистов, избранных пятью австрийскими региональными ассамблеями за пределами Вены в том же году, 16 % являлись владельцами собственных предприятий и фермерами, 51% — служащими и 8% — промышленными рабочими (Larsen et al, 1978, p. 766—767).
…
Насколько глубоким было первоначальное распространение фашизма в средних слоях общества — более сложный вопрос. Несомненно, его влияние на молодежь этих слоев было сильно, особенно на студентов европейских университетов, которые в период между войнами, как известно, тяготели к ультраправым. Тринадцать процентов членов итальянского фашистского движения в 1921 году (т. е. до «похода на Рим») были студентами. В Германии от 5 до 8% всех студентов были членами нацистской партии уже в 1930 году, когда подавляющее большинство будущих фашистов еще не начали проявлять интерес к Гитлеру [и первым общественным объединением, перешедшим под нацистский контроль, стал Союз немецких студентов. В.К.].
Как мы увидим, многочисленна была и прослойка бывших офицеров, выходцев из среднего класса,—тех, для кого первая мировая война со всеми ее ужасами стала вершиной личных достижений, при взгляде с которой им открывались лишь тоскливые низменности будущей штатской жизни. Эти представители среднего слоя общества были, безусловно, наиболее восприимчивы к призывам нацистов. В общих чертах влияние правых радикалов проявлялось тем сильнее, чем больше была действительная или предполагаемая угроза положению среднего класса, поскольку рухнули структуры, призванные сохранять существующий порядок в обществе».
То есть нацизм фактически – другое фазовое состояние либерального капитализма, появляющееся как форма реакции системы на «красную опасность», и о нацистах как третьей партии среднего класса (первые две – либералы и христианские демократы). Чем сильнее влияние социалистов и коммунистов, т.е. политической альтернативы капитализму, тем нечувствительней грань между первыми и вторыми. То что они сейчас изображают друг друга как противоположности и это где-то даже выглядит убедительно, говорит лишь о слабости коммунизма.

Самая западная из советских республик — Эльзасская. Заседание Страсбургского совета 15.11.1918
4. Когда пишут о книге М.А.Лифшица «Почему я не модернист?«, обычно даже марксисты и/или люди прогрессивных взглядов как-то внутренне кривятся, мол, автор конечно умён, но в чём-то перегнул палку, записав высокое и часто «левое» искусство 20-30-х гг. в качестве первого шага той деградации, которая стала явственной в 1970-80-е. Тем интересней описание вызванных с модернизмом изменений в культурной жизни у Хобсбаума, который считает его сугубо позитивным и даже революционным феноменом.
«Будучи локальной разновидностью модернизма, в период между Первой и Второй мировой войнами джаз стал знаменем тех, кто стремился показать одновременно свою образованность и современность. Неважно, читал ли человек признанных авторов или нет (к примеру, в среде образованных английских школьников первой половины 193О-х годов такими авторами считались Томас Элиот, Эзра Паунд, Джеймс Джойс и Д. Г. Лоуренс), было неприлично не уметь умно рассуждать о них. Однако, возможно, более интересно то, что культурный авангард каждой страны переписал или переосмыслил прошлое с тем, чтобы приспособить его к современным требованиям. Англичанам велели забыть о Мильтоне и Теннисоне и восхищаться Джоном Донном.
Самый влиятельный английский критик того периода, Ф. Р. Ливис из Кембриджа, даже придумал канон, или «великую традицию» английских романов, которая была прямо противоположна действительной традиции, поскольку не включала в исторический ряд все, что не нравилось критику: например, всего Диккенса, за исключением одного романа, который до тех пор считался самым неудачным произведением писателя,—«Тяжелые времена».
Для поклонников испанской живописи Мурильо теперь был выброшен за борт, однако восхищение Эль Греко стало обязательно для всех. Почти всё, имевшее отношение к «эпохе капитала» и «эпохе империи» (кроме авангардного искусства), не просто отвергалось — на него фактически не обращали внимания. Это демонстрировалось не только стремительным падением цен на произведения академического искусства девятнадцатого века (и одновременным, но все еще скромным повышением цен на живопись импрессионистов и более поздних модернистов): они практически не продавались до 1960-х годов. Даже робкие попытки признать достоинства викторианской архитектуры расценивались как намеренная провокация по отношению к истинно хорошему вкусу, ассоциировавшаяся с реакционностью.
… популярность в 1950-е годы рок-н-ролла (подростковое выражение, пришедшее из негритянских блюзов Северной Америки) ясно показывала, что массы и сами знали или, во всяком случае, смутно понимали, что им нравится. Компании звукозаписи, сделавшие огромные деньги на продаже рок-музыки, отнюдь не создали ее сами и никак не могли предугадать ее появление. Они просто позаимствовали ее на улице. Безусловно, от такого развития событий сама рок-музыка отнюдь не выиграла. Двигателями «искусства» (если слово «искусство» здесь вообще применимо) теперь считались сами обыватели, а не элита.
Более того, по убеждению популистов (как «рыночников», так и отвергающих «элитизм» радикалов), важно было различать не «хорошее» и «плохое» или «сложное» и «простое», а «массовое» и «не слишком массовое». Для старомодной концепции искусства здесь не было места.
Еще более важной причиной упадка «высокого» искусства [уже в 1960-1970-х гг. В.К.] явился провал «модернизма», с конца девятнадцатого века утверждавшего неутилитарный характер творчества и обосновывавшего стремление художника к безграничной свободе. Постоянное обновление составляло саму основу этого понятия. Сторонники модернизма видели в развитии искусства постоянный прогресс — по аналогии с наукой и техникой. Из этого следовало, что сегодняшний стиль неизменно лучше стиля вчерашнего. Данное направление по определению относилось к авангарду. Термин avant-garde вошел в обиход критиков в г88о-е годы и обозначал меньшинство, которое мечтает завоевать внимание большинства, но на самом деле гордится, что пока этого не сделало. Вне зависимости от своей конкретной формы «модернизм» основывался на отрицании буржуазно-либеральных условностей девятнадцатого века в общественной жизни и в искусстве. Он стремился создать искусство, отвечавшее революционному в технологическом и социальном отношении двадцатому веку, которому явно не подходили эстетика и стиль жизни эпохи королевы Виктории, кайзера Вильгельма и президента Теодора Рузвельта…
В идеале обе задачи должны были совпасть: например, кубизм являлся отрицанием викторианского подхода к живописи и одновременно его альтернативой, так же как и коллекции «произведений искусства», отбираемые художниками по собственному желанию. Но на практике эти две задачи часто не совпадали; яркими примерами тому стали «писсуарные поиски» Марселя Дюшана и «искания» дадаистов. То было уже не искусство, а антиискусство».
Легко видеть, что это подтверждение реальности тех самых явлений, о которых пишет Лифшиц, только с противоположной оценкой.

Белый террор в Европе 1918-1920 гг. Бойцы фрайкора ведут арестованных революционеров по улицам Мюнхена после падения Мюнхенской Советской республики, 1919 год. Иллюстрация из книги «Война во время мира: Военизированные конфликты после Первой мировой войны. 1917-1923»
5. Пропасть между «простонародьем» и «чистой публикой стала зарастать после 1968 г., — с одной стороны, вследствие «молодёжной революции», с другой – потому, что всё общество в развитых странах, и даже рабочий класс, всё больше становились паразитами на теле «третьего мира», разрушающегося капиталистической мир-экономикой.
«Новизна 1950-х годов заключалась в том, что молодежь высшего и среднего классов, по крайне мере в англосаксонских странах, все больше задававшая тон в мире, качала перенимать моду в музыке, одежде и даже в языке у городских низших классов. Рок-музыка являлась самым ярким тому примером. В середине 1950-х годов она внезапно вырвалась из гетто каталогов «Race» и «Rhythm and Blues» американских звукозаписывающих компаний, ориентированных на бедное негритянское население США, и стала международным языком общения молодежи, особенно белой. В прошлом юные модники из рабочей среды каким-то образом черпали образцы своего стиля в высокой моде высших социальных слоев и в такой субкультуре среднего класса, как артистическая богема, причем в большей степени это наблюдалось среди девушек.
Теперь, казалось, все происходило наоборот. Рынок моды для рабочей молодежи утвердил свою независимость и начал задавать тон на рынке моды высших классов. По мере наступления джинсов парижская haute couture отступила или, скорее, признала свое поражение и стала использовать престижные марки для продажи массовой продукции, непосредственно или по лицензии. Кстати, в 1965 году французская легкая промышленность впервые выпустила женских брюк больше, чем юбок (Veillon, p. 6).
Молодые аристократы начали в разговоре проглатывать окончания слов, подражая речи лондонских рабочих, хотя в Великобритании отличительной чертой представителей высшего класса всегда была их безупречная речь. Респектабельные молодые люди и девушки начали копировать то, что некогда было модно в среде отнюдь не респектабельной— у рабочих, солдат и им подобных, а именно использование непристойных выражений в разговорной речи. Литература тоже старалась не отставать…. Впервые в истории сказки Золушка стала королевой бала, так и не надев роскошного наряда.
Это изменение вкусов в сторону простонародности у молодежи среднего и высшего классов западного общества, аналогии с которыми можно было найти в странах третьего мира, например с чемпионатом по самбе, устроенным бразильскими интеллектуалами, могло иметь некоторую связь с вспыхнувшим несколько лет спустя массовым увлечением студентов, принадлежащих к среднему классу, революционной политикой и идеологией. Мода часто бывает пророческой».
6. «…культурную революцию конца двадцатого века лучше всего представить как победу индивидуума над обществом или, скорее, как разрыв связей, которые до этого объединяли людей в социальные структуры. Ибо такие структуры состояли не только из отношений между человеческими существами и форм их организации, но также из идеальных образцов и ожидаемых моделей поведения людей; их роли были установлены, хотя и не всегда записаны. Отсюда частые моральные травмы и незащищенность, когда прежние нормы поведения были либо уничтожены, либо утратили свои мотивации, а также непонимание между теми, кто переживал эту потерю, и теми, кто был слишком молод, чтобы знать что-либо, кроме общества с распавшимися связями.
Исходя из этого, один бразильский антрополог в 1980-6 годы проанализировал переживания мужчин среднего класса, воспитанных в средиземноморской культуре с ее традициями чести к стыдливости. В это время участились случаи грабежей, и мужчины стали подвергаться нападениям многочисленных групп грабителей, требовавших от них денег и угрожавших насилием их подругам. В таких обстоятельствах джентльмену следует защитить женщину, даже ценой жизни, а леди—предпочесть смерть бесчестию. Однако в реальной обстановке больших городов в конце двадцатого века было непохоже, что сопротивление, оказанное джентльменом, может спасти кошелек или женскую честь. Разумным поведением при таких обстоятельствах было отступление, чтобы помешать агрессорам нанести реальные увечья или даже совершить убийство.
Что касается чести женщины, которая по традиции должна была быть девственницей до брака, а после него сохранять верность мужу, то что именно следовало здесь защищать в 1970-e годы, когда так изменились взгляды на сексуальное поведение как мужчин, так и женщин? Тем не менее, как показали исследования этого антрополога, все эти соображения не облегчали нравственных страданий участников. Даже менее экстремальные ситуации могли породить неуверенность и угрызения совести — например, обычное любовное свидание. В результате альтернативами прежним нормам поведения, какими бы они ни были неразумными, могли оказаться не новые разумные нормы и обычаи, а полное отсутствие правил и полная несогласованность в том, что следует делать».
7. Мировая революция
«Völker, hört die Signale» («Люди, слушайте сигналы») была первая строчка припева Интернационала в Германии. Сигналы звучали, громко и отчетливо, из Петрограда и, после того как в 1918 году столица была перенесена в более безопасное место,— из Москвы. Они были слышны везде, где имели влияние рабочие и социалистические движения, независимо от их идеологии. Советы были созданы рабочими табачного производства на Кубе, где мало кто знал, где находится Россия. Годы 1917— 1919 в Испании стали известны как «большевистское двухлетие», хотя местные левые были страстными анархистами, т. е. политически находились на противоположном полюсе от Ленина.
Революционные студенческие движения вспыхивали в Пекине в 1919 году и Кордобе (Аргентина) в 1918 году, вскоре распространившись по всей Латинской Америке и породив местных революционных марксистских лидеров и их партии. Индейский националист и повстанец М. Т. Рой попал под влияние революционных идей в Мексике, где местная революция, вступившая- в наиболее радикальную фазу в 1917 году, сразу же объявила о своем духовном родстве с революционной Россией. Маркс и Ленин стали ее иконами вместе с Монтесумой и Эмилиано Сапатой, вдохновляя на борьбу рабочих-индейцев. Изображения этих вождей все еще можно увидеть на громадных фресках мексиканских художников-революционеров. Через несколько месяцев Рой приехал в Москву, чтобы сыграть главную роль в формировании новой антиколониальной политики Коминтерна.
Благодаря жившим ,в Индонезии голландским социалистам (таким, как Хенк Снеевлит) Октябрьская революция оказала влияние на самую массовую организацию индонезийского национально-освободительного движения— «Сарекат Ислам».
«Эта акция русского народа,— писала провинциальная турецкая газета,—когда-нибудь в будущем превратится в солнце и озарит все человечество».
Далеко в глубине Австралии суровые стригали овец (в большинстве своем ирландские католики), не выказывавшие никакого интереса к политической теории, приветствовали Советы как государство рабочих. В США финны, в течение долгого времени являвшиеся наиболее убежденными социалистами в эмигрантских землячествах, в массовом порядке становились коммунистами, проводя в мрачных шахтерских поселках Миннесоты митинги,
«на которых упоминание имени Ленина заставляло сердце биться (…) В мистической тишине, почти в религиозном экстазе, мы восхищались всем, что приходило из России» (Koivisto, 1983).
Одним словом, Октябрьская революция стала событием, которое потрясло мир. Даже многие из тех, кто знал о революции не понаслышке, что, как правило, менее всего вызывает религиозный экстаз, стали ее приверженцами—от военнопленных, вернувшихся домой на родину убежденными большевиками и впоследствии ставших коммунистическим лидерами своих стран, подобно хорватскому механику Иосифу Броз (Тито), до журналистов, как, например, Артур Рэнсом из «Manchester Guardian» (незначительный политик, больше известный как автор замечательных детских книжек о море). Еще меньший приверженец большевизма, чешский писатель Ярослав Гашек, будущий автор «Похождений бравого солдата Швейка», впервые в жизни обнаружил, что стал борцом за идею и, что самое удивительное, начал меньше пить. Он принимал участие в гражданской войне как комиссар Красной армии, после чего вернулся к более привычной пьяной жизни среди пражской анархической богемы на том основании, что послереволюционная Советская Россия его разочаровала.
Тем не менее события, произошедшие в России, стимулировали не только революционеров, но, что более важно, и революции в других странах».
8. «Именно Октябрьская революция реформировала русский календарь, как она реформировала и русскую орфографию, продемонстрировав глубину своего влияния. Хорошо известно, что даже подобные незначительные изменения обычно требуют социально-политических потрясений. Так, самым долгосрочным последствием французской революции мирового масштаба явилось введение метрической системы мер».
9. «Период 1929—1933 годов стал пропастью, сделавшей невозможным возвращение в мир 1913 года. Старомодный либерализм умер или казался обреченным на вымирание. Три направления теперь состязались за право интеллектуально-политической гегемонии. Одним из них являлся марксизм. Казалось, что предсказания Маркса наконец-то воплощаются в жизнь, в чем была убеждена в 1938 году даже Американская экономическая ассоциация. Но еще более впечатляющим стало то, что именно СССР оказался застрахован от экономической катастрофы.
Капитализм, лишенный своей веры в преимущества свободного рынка и реформированный путем некоего неофициального брака (или долговременной связи) с умеренной социал-демократией некоммунистических рабочих движений, являлся вторым направлением, ставшим наиболее эффективным после Второй мировой войны. Однако в краткосрочной перспективе это была не столько продуманная программа или политическая альтернатива, сколько ощущение того, что, раз депрессия уже позади, ей нельзя позволить вернуться, и в лучшем случае готовность к эксперименту, вызванная явным крахом классического рыночного либерализма.
Так, политика шведской социал-демократии после 1932 года явилась сознательной реакцией на провалы экономического традиционализма, преобладавшего в губительной политике лейбористского правительства Великобритании 1929—I93I годов, во всяком случае по мнению одного из его главных архитекторов, Гуннара Мюрдаля. Теория, альтернативная обанкротившемуся свободному рынку, тогда еще только разрабатывалась. Работы «Общая теория занятости», «Спрос и деньги» Дж. М. Кейнса, внесшие в нее наиболее значительный вклад, были опубликованы лишь после 1936 года. Альтернативная практика правительств—макроэкономическое управление экономикой, основанное на анализе национального дохода,—возникла только после Второй мировой войны, и в последующие годы, хотя, вероятно, не без учета событий, происходивших в СССР, правительства и другие государственные институты в 1930-х годах все больше стали рассматривать национальную экономику как единое целое и оценивать ее параметры по совокупному продукту или доходу.
Первыми государствами, избравшими такой образ действий, в 1925 году были СССР и Канада. К 1939 году правительства уже девяти стран имели официальную статистику о национальном доходе, а Лига Наций вела такую статистику по 29 странам.
Сразу же после Второй мировой войны были получены данные по 39 странам, в середине 1950-х—по 93-м. С этого времени показатели национального дохода, часто имевшие самое отдаленное отношение к реалиям жизни народов этих стран, стали почти такой же нормой для независимых государств, как национальный флаг, герб и гимн.
Третьим направлением стал фашизм…»
10. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг.
«Кризис поразил и производство первичной продукции — продуктов питания и сырья, поскольку цены на них, больше не поддерживаемые фондами кредитования, как раньше, стали стремительно падать. Цены на чай и пшеницу упали на две трети, на шелк-сырец—на три четверти. Это имело губительное влияние (назовем лишь страны, перечисленные Лигой Наций в 1931 году) на Аргентину, Австралию, страны Балканского полуострова, Боливию, Бразилию, (Британскую) Малайю, Канаду, Чили, Колумбию, Кубу, Египет, Эквадор, Финляндию, Венгрию, Индию, Мексику, нидерландскую Индию (теперешнюю Индонезию), Новую Зеландию, Парагвай, Перу, Уругвай и Венесуэлу, чья внешняя торговля в значительной степени зависела от продажи нескольких основных видов сырья. Все это в буквальном смысле сделало депрессию глобальной.
Экономики Австрии, Чехословакии, Греции, Японии, Польши и Великобритании, крайне чувствительные к сейсмическим потрясениям, приходящим с Запада (или Востока), также были подорваны. За пятнадцать предшествующих лет Япония утроила производство шелка, снабжая обширный и все расширяющийся американский рынок шелковых чулок. Теперь он временно исчез— и сразу же на 90 % сократилось количество японского шелка, поставлявшегося в Америку.
Между тем цена на другой основной предмет экспорта японского сельскохозяйственного производства—рис—так же резко упала, как и во всех остальных основных производящих рис регионах Южной и Восточной Азии. Затем упали цены на пшеницу, причем настолько, что пшеница стала дешевле риса, поэтому многие жители Востока вынуждены были переключиться с одного на другое. К тому же резкое увеличение производства ча-паттис и лапши еще более ухудшило положение фермеров в экспортирующих рис странах, таких как Бирма, французский Индокитай и Сиам (теперешний Таиланд) (Latham, 1981). Сельскохозяйственные производители пытались возместить падение цен путем выращивания и продажи большего урожая, что заставило цены падать еще быстрее.
Для фермеров, зависевших от рынка, особенно экспортного, это означало разорение или возвращение к последнему традиционному оплоту — натуральному хозяйству. Это было пока еще возможно в большинстве стран зависимого мира, и поскольку жители Африки, Южной и Восточной Азии и Латинской Америки все еще в основном были крестьянами, такая возможность, без сомнения, облегчила их существование. Олицетворением краха капитализма и глубины депрессии стала Бразилия. Владельцы кофейных плантаций отчаянно пытались предотвратить обвал цен, сжигая кофе вместо угля в топках своих паровозов (Бразилия поставляла от двух третей до трех четвертей всего количества кофе, продаваемого на мировом рынке).
Тем не менее Великая депрессия явилась гораздо менее тяжелым испытанием для в основном земледельческой Бразилии, чем экономические катаклизмы 1980-x годов, отчасти потому, что экономические запросы бедных слоев населения в то время были еще крайне скромными.
И все же даже в аграрных колониях население бедствовало, что было заметно по снижению на две трети импорта сахара, муки, рыбных консервов и риса на Золотой Берег (теперешнюю Гану), где рухнул державшийся на крестьянском труде рынок какао, не говоря уже о 98,3 %-ном падении импорта джина (Ohlin, 1931, Р- 52).
Для тех, кто по определению не имел доступа к средствам производства или контроля над ними (кроме возможности вернуться домой в деревню), а именно для мужчин и женщин, нанятых за плату, основным последствием депрессии стала безработица беспрецедентных масштабов и длительности. В худший период депрессии (1932—1933) 22—23 % британских и бельгийских рабочих, 24% шведских, 2у% американских, 29% австрийских, 31% норвежских, 32% датских и 44% немецких рабочих оказались на улице. И что не менее существенно, даже во время периода оживления экономики после 1933 года среднее число безработных в 1930-е годы не стало ниже 26—17% в Великобритании и Швеции и ниже 2о % в остальных Скандинавских странах, Австрии и США. Единственным государством Запада, преуспевшим в преодолении безработицы, была нацистская Германия в период между 1933 и 1938 годами.
Иными словами, на памяти трудящихся еще не было экономической катастрофы такого масштаба, как эта.
Но еще более драматическим положение становилось оттого, что общественных резервов социального обеспечения, включая пособие по безработице, в то время или просто не существовало, как в США, или, если сравнивать со стандартами конца двадцатого века, было явно недостаточно, особенно при длительной безработице. Вот почему социальная защищенность всегда являлась жизненно важной заботой рабочих, поскольку была спасением при потере работы, гарантировала защиту от болезней, несчастных случаев и страшной перспективы нищей старости.
Вот почему рабочие мечтали видеть своих детей на скромно оплачиваемой, но надежной работе с твердой перспективой пенсии. Даже в Великобритании—стране, в наибольшей степени защищенной программами страхования от безработицы, перед началом Великой депрессии они охватывали менее 6о% рабочих—и то только благодаря тому, что Великобритания уже с 1920 года была вынуждена адаптироваться к массовой безработице. В других странах Европы число рабочих, претендовавших на пособия по безработице, варьировалось от нуля до примерно одной четверти от всего количества (за исключением Германии, где оно составляло более 40%) (Flora, 1983, Р- 4бг).
Люди, даже привыкшие к периодам временной безработицы, были доведены до отчаяния, когда они нигде не могли найти работу, а их скудные сбережения и кредит в местной бакалейной лавке были исчерпаны…
Ниже мы рассмотрим прямые политические последствия этого наиболее драматичного эпизода в истории капитализма. Однако о его самом важном долгосрочном последствии нужно упомянуть прямо сейчас. Если говорить коротко, Великая депрессия на полвека покончила с либерализмом в экономике. В 1931—1932 годах Великобритания, Канада, вся Скандинавия и США отказались от золотого стандарта, всегда считавшегося основой стабильных экономических расчетов, а к 1936 году к ним присоединились даже такие убежденные сторонники золотого стандарта, как бельгийцы и голландцы, и в конце концов даже французы. Великобритания в 1931 году отказалась от свободной торговли, что почти символично, поскольку с 184O-x годов она являлась такой же основой британской экономики, как американская конституция является основой политической самобытности Соединенных Штатов. Отступление Великобритании от принципов свободы экономических операций в общемировой экономике подчеркивает общее стремление к национальному самосохранению в то время. Более конкретно: Великая депрессия заставила западные правительства поставить социальные соображения над экономическими в своей государственной политике».
***
Но, конечно, есть в книге и минусы. И дежурные обличения «ужасов сталинизма», и антиизраильские пассажи, карикатурные в своей алогичности (то и другое у «демократических левых» смешным образом сопряжено). Это больше напоминает присягу на верность «своим», чем суждения историка; впрочем, как он сам пишет в начале, в истории 20-го века он не специалист, а читатель, тем более что события «эпохи крайностей» до сих пор ещё не стали историей, а остаются политикой, тут бесстрастность сохранять сложно. Но в любом случае книга – умный и интересный взгляд изнутри на проблемы и язвы капиталистической системы человека, который в юности пытался порвать с ней, но не смог «выйти за флажки»: цепи оказались сильней, удержали и вернули обратно.
Источник wolf_kitses














