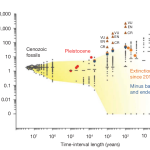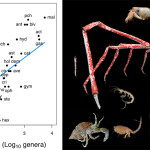Мнение, что мышление есть язык или, по крайней мере «язык про себя», широко распространено в истории науки. Столь же широко представлено мнение, что мышление (и познание в целом) определяется особенностями естественного языка. Эта точка зрения была популярна в течение 19-го столетия. По словам Вильгельма фон Гумбольдта:
«Так как восприятие и деятельность человека зависят от его представлений, то его отношение к предметам целиком обусловлено языком… Каждый язык описывает вокруг своего носителя невидимый круг, покинуть который можно лишь вступив в другой круг»[1].
В 20-м веке американский лингвист Эдвард Сэпир, а затем антрополог Бенжамин Ли Уорф выступили с близким тезисом, получившим название гипотезы лингвистической относительности (гипотеза Сэпира—Уорфа). Согласно Уорфу:
«Мир предстает перед нами в качестве калейдоскопического потока впечатлений, которые должны быть организованы нашим разумом, а значит, прежде всего лингвистической системой нашего разума… «Реальный мир» строится на основе языковых навыков группы… Мы видим, слышим, чув ствуем и мыслим так, а не иначе, главным образом потому, что языко вые навыки нашего общества предопределяют выбор интерпретаций».
В психолингвистике иногда различают сильную и слабую версии гипотезы лингвистической относительности. Сильная версия в духе Гумбольдта и Уорфа, согласно которой язык полностью определяет особенности мышления, маловероятна, например, из-за существования афазических расстройств, не ведущих к нарушению мышления, и противоположных случаев успешного развития устной и даже письменной речи на фоне выраженного отставания интеллекта (как в случае синдрома Уильямса — успешного онтогенеза речи на фоне чрезвычайно замедленного развития общего и в особенности невербального интеллекта).
Слабая версия допускает локальные взаимодействия этих двух относительно автономных областей. Своеобразным испытательным полигоном для проверки гипотезы лингвистической относительности со времен Гладстоуна стало изучение восприятия и узнавания цвета в зависимости от особенностей цветовой лексики языка [2].
Наиболее известными стали межкультурные данные, полученные Элеонорой Рош. В начале 1970-х годов она провела эксперименты по шкалированию цвета с охотниками за черепами из племени дани, обнаруженного этнографами в горах Новой Гвинеи. Язык дани замечателен простотой его словарного состава, в частности, тем, что для обозначения цветов и их оттенков в нем есть всего лишь два слова. Одно из них используется для обозначения всех темных и холодных цветов, а другое — всех светлых и теплых. Рош использовала стандартную психофизическую процедуру построения модели субъективной близости цветовых оттенков. Она показывала своим испытуемым цветную карточку и затем, сразу или после некоторой паузы, просила найти этот цвет среди нескольких цветных карточек. На основании данных о частоте ошибок (смешении цветов) с помощью многомерного шкалирования можно по строить пространственную модель, в которой точками будут представлены отдельные цвета, а расстояние между точками будет соответствовать субъективному сходству цветов. Эти эксперименты показали, что пространственные модели воспринимаемого и узнаваемого оттенков у дани и у студентов Калифорнийского университета (контрольная группа) в целом очень похожи, несмотря на значительные различия языковых средств кодирования цвета.
Обширные этнолингвистические исследования подтверждают предположение о том, что представленность цветовой терминологии в языках мира отражает в первую очередь процессы постепенного выявления контрастных или оппонентных цветов (Berlin & Kay, 1969; Kay, 2001). Как мы видели, в языке племени дани есть лишь два цветовых термина, при чем они используются для обозначения светло-теплых и темно-холодных тонов. Если в некотором языке для обозначения цветов есть три слова, то к светлому и темному добавляется красный (правильнее было бы сказать, что из комплекса светло-теплых цветов выделяется красный). При большем числе цветовых терминов, как правило, возникают названия для желтого, а также для синего и зеленого. Лишь затем появляются названия для разнообразных оттенков этих основных (базовых) тонов. Особая роль оппонентных цветов связана, во-первых, с их экологической значимостью, так как они наиболее эффективно категоризуют многообразие потенциально воспринимаемых оттенков, и, во-вторых, с существованием физиологических, частично субкортикальных механизмов, кодирующих спектральные характеристики цвета по принципу контраста светлого и темного, зеленого и красного, желтого и синего.
Некоторые языки, причем обычно экваториального пояса, не различают синий и зеленый. Причиной этого может быть желтая пигментация кожи и тканей глазного яблока, выполняющая функцию защитного оптического фильтра от чрезмерного ультрафиолетового излучения. Интересно, что в русском языке этой коротковолновой части спектра, напротив, соответствуют даже не два, как в других европейских языках, а три базовых названия, включающие термин «голубой», который использует ся для обозначения светлого и ненасыщенного синего цвета. Проведенные уже в 1990-е годы сравнения таких языков, как русский (12 базовых цветов), английский (11) и сетсвана (5), выявили некоторое влияние лексикона на запоминание цвета, особенно в ситуациях, требовавших называния оттенков. Основным результатом, однако, была высокая степень сходства как восприятия, так и узнавания цвета в различных языках. Таким образом, на материале цветовой лексики предсказания гипотезы Сэпира—Уорфа не подтверждаются. Скорее всего, язык лишь выявляет здесь специфику механизмов восприятия цвета и перцептивной памяти, изначально имеющих невербальный характер.
Было бы, конечно, ошибкой считать, что столь общее теоретическое предположение, как гипотеза лингвистической относительности, может быть проверено в одной, сравнительно узкой и к тому же не имеющей прямого отношения к мышлению области. В самые последние годы накапливаются данные, заставляющие признать факт взаимодействия особенностей семантики и синтаксиса речи с более сложными познавательными процессами, чем процессы восприятия и узнавания оттенков цвета. Так, согласно данным межкультурных исследований, оценки личностных характеристик испытуемыми-билингвами, одинаково хорошо владеющими китайским и английским языками, зависят от того, какой язык они используют для оценок (Eysenck, 2004). Имеющиеся на этот счет данные, впрочем, довольно противоречивы. В ряде исследований с билингвистическими испытуемыми смена языка с местного на английский не оказывала влияния на специфические стратегии понимания (Ishii, Reyes & Kitayama, 2003) и категоризации (Nisbett et al., 2001). Поэтому есть основания обсуждать как лингвистическую, так и культурную относительность, а главное, вероятную коэволюцию культур и языков
Детальному анализу были подвергнуты особенности языков американских индейцев. Один из языков индейцев майя — язык юкатек — и основные европейские языки выделяют различные признаки объектов. Например, говоря о свече, носитель этого языка обязательно должен уточнить: одна, длинная, тонкая, из воска. По-видимому, существительные юкатек в значительной степени описывают объекты не столько как индивидуальные предметы, сколько как неоформленные субстанции. Психологические тесты на классификацию предметов показали, что носители языка юкатек действительно скорее ориентируются на сам материал предмета и в меньшей степени учитывают форму, чем это обычно делают в аналогичных ситуациях носители европейских языков. Интенсивные исследования проводятся в области пространственного восприятия и познания. При категоризации пространства мы можем пользоваться несколькими разными системами отсчета. В низкоуровневой пространственной активности (локомоции и целевые движения) для нас привычны эгоцентрические координаты: «слева», «справа», «спереди», «сзади». В случае предметных действий, обслуживаемых фокальным вниманием, на первый план выступает внутренняя геометрия самого предмета (так называемые аллоцентрические координаты). Выбор системы отсчета, таким образом, не всегда связан с собственным телом. Он зависит также от распределения внимания и от социальной ситуации, в частности, направленности внимания собеседника. Лектор, объясняющий в аудитории материал студентам, может исполь зовать относительные координаты «слева» и «справа», но экзоцентрическим образом, используя перспективу сидящих перед ним студентов. В некоторых языках и культурах существенное влияние на выбор систем координат оказывают социально-культурные факторы — японцы в отличие от европейцев склонны описывать ситуацию, исходя из перспективы лица, имеющего относительно высокий социальный статус (Herrmann & Grabowski, 1994).
В целом ряде языков нет слов для, казалось бы, столь естественных эгоцентрических направлений, а есть только названия абсолютных направлений, отдаленным аналогом которых могут быть используемые нами географические координаты «север», «юг», «восток», «запад». Такие языки часто встречаются в относительно замкнутых ареалах — на островах Тихого океана, а также в горных регионах мира, от Центральной Америки до Непала. Существование в условиях глобального градиента высот определяет в последнем случае основную пространственную ось когнитивных репрезентаций: «вверх по склону» — «вниз по склону». Присутствие в мышлении и повседневном общении носителей этих языков абсолютной системы координат обнаруживается и в разнообразных невербальных задачах, от узнавания конфигурации расположенных на столе объектов до задач навигационного типа. В результате при перемещениях, в том числе и вне своего ареала обитания, они лучше ориентируются по отношению к невидимым в данный момент объектам, чем испытуемые, опирающиеся на эгоцентрические системы отсчета (Levinson, 1996).
Чтобы обнаружить зависимость познавательных процессов от особенностей языка, не обязательно участвовать в этнографических экспедициях. Так, грамматика немецкого языка предъявляет особые требования к фонологической рабочей памяти, поскольку критический компонент, отрицание, может стоять в конце предложения. Турецкий язык предписывает использование разных форм глаголов в зависимости от того, был ли говорящий непосредственным свидетелем описываемых событий или же узнал о них из других источников. Возможные следствия из этого факта для «амнезии на источник» — основной проблемы эпизодической памяти, насколько нам известно, еще не проверялись эмпирически.
Другой пример: во французском и испанском языках глаголы абстрактны, тогда как в русском и финском они требуют подробной спецификации характера действия. Для носителя русского языка змея «выползает», человек «выходит», птица «вылетает» — во всех этих случаях можно использовать единственный французский глагол «sortir» («покидать»). Эти различия вполне могли бы влиять на характер распределения внимания и на интерпретацию эпизодов, но опять же соответствующие эксперименты нам не известны.
Еще одно интересное различие между, казалось бы, близкими языками состоит в том, что там, где английский язык допускает описание потока последовательных изменений, использование немецких глаголов движения неявно предполагает указание цели. Вероятная причина этого состоит в специфике «лингвистического аспекта (вида)» — английской «ing»овой формы глаголов. Она позволяет описывать процесс как состояние изменения, происходящего сейчас — безотносительно к прошлому и будущему. Отсутствие подобной формы глаголов в немецком языке навязывает более целостное понимание событий, где всякое действие и изменение предполагают начало, а также более или менее целесообразный конец. Для немца «корабль опускается на дно», тогда как для англичан (а также, очевидно, и для русских) корабль просто тонет в данный момент: «is sinking». Возможно, именно поэтому удается обнаружить заметные различия в описании последовательности событий носителями английского и немецкого языков. Различия возникают, отчасти, и при наблюдении событий — в отличие от англичан немцы чаще ищут глазами возможную конечную точку некоторого движения, даже если это движение состоит всего лишь в перемещении группы утят по двору.
В таблице приведены данные недавнего исследования особенностей пересказа содержания короткого мультипликационного фильма испытуемыми, говорящими на различных языках (Stutterheim & Nuese, 2003). В качестве контрольной группы были выбраны алжирские арабы, язык которых имеет глагольную форму, близкую «ing»-овой форме английского языка. Как видно из полученных данных, англичане и алжирцы, описывая последовательность событий, спонтанно разбивали ее на значительно более дробные эпизоды, чем немцы. Одновременно немецкие испытуемые примерно в три раза чаще упоминали конечные состояния движения и цели, чем испытуемые двух других групп. Высокое сходство результатов английской и алжирской групп свидетельствует о том, что эти данные не могут быть объяснены общими культурными различиями, более выраженными между английской и алжирской группами, чем между английской и немецкой.
Таблица. Количество сообщаемых событий и относительное число упоминаемых целей действия при пересказе фильма испытуемыми трех языковых групп (по: Stutterheim & Nuese, 2003). ** — различия значимы при Р<0.01
| Общее число упоминаний | Язык пересказа
немецкий |
английский | арабский (алж.) |
| Событий | 11,2** | 21,5 | 19,7 |
| Целей/событий | 5,75** | 1,80 | 1,63 |
В данном случае речь идет о самом первом исследовании этого рода, поэтому следует подождать подтверждений (или опровержений) результатов другими авторами. И все же трудно удержаться от спекулятивного предположения, что обнаруженные различия в описании событий могут объяснять фундаментальные различия англоязычной (аналитической) и немецкоязычной (более целостной и телеологичной) философских традиций, а также тот неоспоримый факт, что атомистические подходы в психологии представлены, главным образом, работами английских и американских коллег, тогда как гештальтпсихология и разнообразные подходы к проблематике деятельности и действия первоначально возникли именно в сфере немецкого языка. Таким образом, даже «слабое взаимодействие» языка и мышления может привести к чрезвычайно заметным последствиям!
Это обстоятельство в свое время прокомментировал Бертран Рассел, писавший, что в психологических экспериментах шимпанзе обнаруживают черты национального характера психологов: в американских исследованиях они проявляют бешеную активность и рано или поздно, совершив множество ошибок, наталкиваются на решение; в немецких работах (речь идет, очевидно, о работах Кёлера) обезьяны периодически надолго задумываются и после одной из таких пауз сразу демонстрируют правильное решение задачи.
В последние два десятилетия в результате развития знаний о когнитивных процессах, а также демонстрации явной ошибочности строгой версии гипотезы лингвистической относительности проблема взаимоотношения языка и мышления начинает рассматриваться в совершенно новом аспекте. В работах по когнитивной лингвистике получает распространение точка зрения, которая может быть названа «речь для мышления». Предполагается, что за различными языками, при всем их разнообразии, кроятся единые когнитивные универсалии, возможно, связанные с общими социальными формами деятельности. Иными словами, фундаментальные принципы организации познания первичны и универсальны, а языки отличаются характером средств, позволяющих выражать отдельные аспекты этих принципов.
Дифференцированное обоснование этой точки зрения можно найти в работах по сравнению языков. Здесь же можно найти указания на то, что понимается под «когнитивными универсалиями». По мнению известного русского лингвиста А.Е. Кибрика, наиболее общий когнитивный принцип состоит в нашей чувствительности к различию нормального (естественного, ожидаемого) и атипичного (маловероятного, неестественного). В отношении языковых проявлений этого принципа, говорящий стремится выражать нормальное положение дел в мире простейшими языковыми средствами, или даже вообще не выражать, и, напротив, использовать специальные кодирующие средства {маркирование) для менее типичного случая (Кибрик, 2003, 2004) [3].
Примером действенности когнитивных универсалий может служить категория числа. Во всех известных языках для кодирования единственного числа счетных объектов используется меньше, или, по крайней мере, не больше «лингвистического материала», чем для кодирования множественного (дом — дома, day — days, Schrank — Schraenke). Совершенно очевидно, что в случае счетных объектов именно форма единственного числа является «дефолтной», когнитивно нормальной. Иначе обстоит дело со словами, обозначающими собирательные совокупности объектов. Здесь менее типичной, лингвистически более сложной и по этому специально маркируемой оказывается форма единственного числа (ср., например, в русском языке: морковка — морковь, брусничина — брусника, песчинка — песок).
Другой пример действенности того же принципа связан с феноменом анафоры — замены существительных и личных имен местоимениями, а иногда и так называемой «нулевой формой», когда референт вообще явно не присутствует в тексте, даже в форме местоимения, хотя постоянно имеется в виду по существу. Использование «нулевой формы» характерно для кратких биографических описаний: «Родился в 1869 году. Учился в Санкт-Петербургском университете» и т.д. Чем менее явно некто или нечто упоминается «по имени» собственно в корпусе речи, тем выраженнее может быть при прочих равных условиях их психологическое присутствие в качестве когнитивных референтов. Следует заметить, что поскольку одушевленные референты психологически (когнитивно) особенно важны, они в первую очередь привлекают наше внимание. Именно поэтому они, как показывают исследования, значительно чаще замещаются местоимениями и «нулевой формой», чем не одушевленные референты.
Еще один универсальный когнитивный принцип связан с существованием личной сферы говорящего-слушающего и с языковым маркированием психологической близости к ней. Для этого в различных языках мира используется хорошо известная иерархия личных местоимений. Обычно она имеет примерно следующий вид:
я > мы > ты > вы > он/она > они.
Вместе с тем, существуют языки с несколько иной функциональной иерархией, в частности, выявляющей доминирование перспективы второго лица «ты» над «я» и «мы» (см. также в 6.4.3 о так называемой эгоцентричности речи). В любом случае когнитивно нормальным, не требующим специального маркирования является случай, когда первые лица играют роль активного начала, то есть роль АГЕНСов высказывания, тогда как лица в правой части иерархии личных местоимений и безличные объекты — роль ПАЦИЕНСов (см. 7.3.2). Всякие отклонения от этого ожидаемого случая требуют использования специальных языковых средств.
Третий универсальный принцип, причем, несомненно, не только перцептивной, но и когнитивной организации, хорошо известен в психологии. Он состоит в разделении любой осознаваемой нами ситуации на фигуру и фон (см. 1.3.1, 3.3.1 и 7.3.2). Когнитивная лингвистика повторно открыла существование фигуры и фона около трех десятилетий назад, после чего был обнаружен целый ряд обусловленных этим разделением речевых и коммуникативных феноменов (Talmi, 1978). Существование данного принципа организации, в частности, предписывает особое маркирование того, что должно стать фигурой, или, другими словами, того, что вводится в фокальную зону совместного внимания участников процесса коммуникации (Мельчук, Иорданская, 1995; Clark, 1992).
Наконец, четвертый принцип, который также выявили кросслингвистические исследования Е.А. Кибрика и его коллег, связан с существованием и отражением в языке шкалы различных семантических отношений обладания: от отношения части тела (как правило, неотделяемой) к его обладателю до сугубо ситуативного отношения между более или менее случайным предметом и действующим с ним в данный момент актором. Чем прочнее отношения обладания («неотчуждаемая принадлежность» > «отчуждаемая принадлежность»), тем выше оказывается вероятность использования при их описании в разных языках мира средств речевого маркирования. Этот последний принцип потенциально относится к сфере социальных отношений и товарообмена, в последнее время привлекающей особое внимания специалистов по эволюционной психологии.
Когнитивные универсалии обычно выявляются посредством языка, так что фактически мы наблюдаем некоторые коммуникативные феномены. Если высшие познавательные процессы неоднородны, то мышление вне сферы коммуникации может быть отличным от мышления в области социальных взаимодействий, неотделимых от коммуникации и речи (см. 8.4.2). Эти соображения определяют еще одну теоретическую позицию, получившую название «мышление для речи». Согласно этой точке зрения, конкретный язык не просто выражает доступными ему средствами универсальные принципы мышления, но существует и обратная зависимость — некоторое подмножество процессов мышления включено в обслуживание коммуникации и адаптивно меняется в зависимости от особенностей средств выражения конкретного языка (Slobin, 1996). Так, в приведенном выше примере описания событий англо- и немецкоязычными испытуемыми (см. таблица) различия между двумя группами наблюдались только в контексте актуальной или потенциальной коммуникативной задачи. Если испытуемые просто должны были молча отмечать эпизоды фильма, нажимая пальцем на кнопку, количество выделяемых этими группами событий сравнивалось между собой.
Главный итог нескольких десятилетий когнитивных исследований тезиса о «лингвистической относительности» познаний — перевод этой фундаментальной проблемы из области преимущественно философских споров в плоскость эмпирического анализа, где полем проверки гипотез служат десятки и сотни реально существующих языковых сообществ. Разнообразие, специфичность и часто достаточно очевидные пути операционализации гипотез отличают подобные исследования от основной массы межкультурных (и культурно-исторических) работ, не учитывающих как раз особенности конкретных языков, прежде всего то, что обязательно должно получить выражение в словесном описании событий, и то, на что можно не обращать особого внимания. Разумеется, необходима дополнительная проверка этих новых данных и дальнейшее обсуждение наметившихся подходов, чтобы можно было с уверенностью сказать, в каких контекстах деятельности и на каких уровнях когнитивной организации происходит взаимодействие мышления и речевой активности.
Когнитивная наука: основы психологии познания. Т.2. С.188.
[1] Так, например, в немецком «смерть» мужского рода (der Tod), поэтому русскоговорящие в большинстве своём совершенно неверно воспринимают массовую нравоучительную картину гумбольдтовых времён, на которой отвратительный старик крадётся к безмятежно спящей юной девушке
[2] Британский премьер-министр и специалист по классической филологии Уильям Гладстоун опубликовал в 1858 году работу, в которой на основании анализа встречающих ся в текстах Гомера необычных для современного читателя образных сравнений высказал предположение, что у древних греков отсутствовало восприятие синего цвета, а оценка тональности других цветов была искажена
[3] И вот тут социальное влияние оказывает своё формообразующее действие на мышление индивида, ведь что нормально, а что нет, что естественно, а что уклонение от естества, задано классовыми разделениями и общественными противостояниями, которые актуальны в данный конкретный момент. В.К.