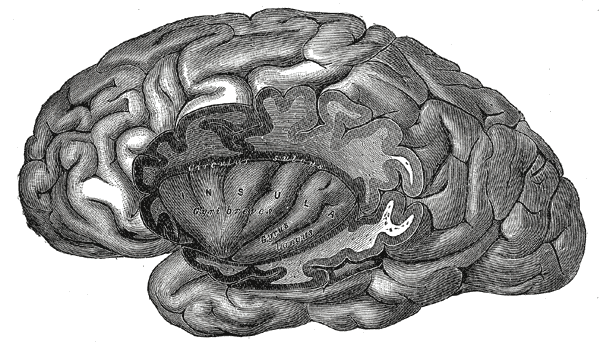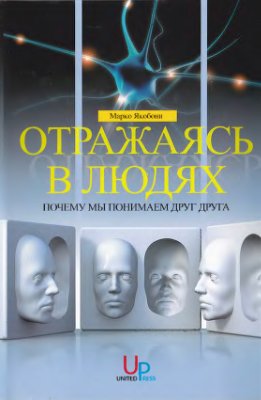Аннотация. Прогресс исследований природы детской амнезии показывает, что её причина – не слабость памяти или неразвитость мозга, а невыделенность собственного «я»». Обсуждается, как последнее создаётся и «загружается вовнутрь» работой зеркальных нейронов
Проблема детской амнезии
Содержание
«Едва ли не самым известным феноменом памяти, имеющим отношение как раз к этому периоду онтогенетического развития, является феномен детской амнезии. Впервые описанный еще Фрейдом, этот феномен состоит в том, что у взрослых обычно нет воспоминаний или, по крайней мере (как показывает и соответствующий статистический анализ), достоверно слишком мало воспоминаний, относящихся к возрасту, предшествовавшему 3—4 годам. Интересно, что одновременно дети этого возраста могут легко припоминать более ранние события, иногда даже события первого года жизни.
Для объяснения детской амнезии было предложено много различных гипотез, из которых мы рассмотрим здесь лишь наиболее известные:
- ранние впечатления хуже кодируются и запоминаются, чем более поздние;
- ранние впечатления кодируются более примитивной системой памяти, которая допускает лишь имплицитное, но не эксплицитное извлечение;
- ранние впечатления сохраняются, но их припоминание подавляется (вытесняется) сознательным «Я»;
- детям в более раннем возрасте не хватает личностного контекста кодирования и извлечения опыта, который предполагает понятия «Я» и представления о времени.
Первое объяснение, конечно, является правильным, но слишком общим, не вскрывающим ни специфики затруднений, ни причину их связи с определенным возрастом. Второе фактически неверно, так как эксплицитное извлечение в действительности возможно, но только в отношении безличностной, семантической памяти («знаю» или просто «известно»). Третье, психоаналитическое объяснение верно указывает на связь данного феномена с личностью, но при этом опирается на непроверенные допущения о содержаниях «бессознательного», аффективном характере этих содержаний и взаимодействии уровней, протекающем по типу подавления, или вытеснения. Для большинства этих допущений до сих пор отсутствуют доказательства.
Более того, некоторые из них, похоже, не подтверждаются, поскольку среди немногих ранних воспоминаний можно найти примеры как эмоционального, так и вполне нейтрального (с точки зрения взрослых) содержания. Последнее объяснение в наибольшей степени соответствует имеющимся на сегодня фактам, в их совокупности говорящим о появлении в этом возрасте нового уровня организации и связанной с ним личностно-смысловой «системы координат». Этот уровень, названный нами уровнем метакогнитивных координации (F), делает возможным автономное функционирование эпизодической памяти и произвольное планирование действий во времени.
Важное замечание по поводу становления высших форм памяти состоит в уточнении роли социального взаимодействия. Развитие индивидуальной теории психики коррелирует с интенсивностью социальных контактов и ускоряется, когда у ребенка есть братья и сестры (Регпег, личное сообщение, ноябрь 2002). В терминологии Л.С. Выготского, речь идет о том, что память в качестве мн/и/?опсихологической функции появляется после памяти как внепсихологической, то есть распределенной между участниками действия, функции. Так, если типичной стратегией припоминания у взрослых является мысленный поиск в некотором представляемом окружении, то онтогенетически ему предшествует реальный поиск (допустим, оставленной где-то школьной тетради), организуемый и проходящий при участии близких.
Такое совместное припоминание (joint reminiscing) стало в последние годы предметом ряда замечательных исследований[1]. Как оказалось, развернутость и направленность речевого рассказа матери об актуальных или прошлых событиях влияют на успешность их последующего припоминания ребенком в диапазоне возрастов от 3 до, как минимум, 7 лет, причем иногда это влияние обнаруживается лишь несколькими годами позже. Структура этих корреляционных зависимостей, однако, претерпевает изменение между 4 и 5 годами, когда успешность эпизодического припоминания начинает устойчиво зависеть также от индивидуальных особенностей описания событий самим ребенком (Nelson & Fivush, 2000).
Появление метакогнитивных координации, в частности метапамяти, во многом меняет функционирование памяти. Часто это проявлется в использовании определенных приемов или стратегий решения мнестических задач, которые затем автоматизируются и приобретают характер полурефлекторного ответа на ситуацию. Примером может служить проговаривание при запоминании вербального или легко вербализуемого материала, которое начинает систематически использоваться детьми сравнительно поздно, в возрасте 5—7 лет. Таким образом, повторение во внутренней речи — не фиксированный компонент когнитивной архитектуры … и не обязательное условие понимания речи …, а метакогнитивная стратегия, причем вполне гибкая, как это было установлено и в рамках теории уровней обработки. При условии достаточного внимания и мотивации эффективность этой простейшей стратегии запоминания может быть чрезвычайно высока.
Из «Когнитивной науки» Б.М.Величковского. Т.1. С.439
«Душа» существует объективно вне нас
Иными словами, детская амнезия вызвана не слабостью памяти как таковой, а невыделенностью того самого «я», которое отличает «события со мной» от событий с другими из моего окружения, которые я себе представляю (как и «бессознательный альтруизм» у детей). Здесь, как и в других аспектах развития личности, образно говоря, Выготский победит Пиаже: наше «я» не созревает, будучи эндогенно детерминированным, а «делается» социальными взаимодействиями растущего человечка со значимыми другими, особенно в зоне ближайшего развития.
«Из записных книжек ученика Л.С.Выготского Даниила Борисовича Эльконина:
«Не забыть: если бы Л.С. был жив, и я смог бы, как часто бывало, за чашечкой кофе в кафе «Норд» задать ему вопрос, то я спросил бы его: «А ты понимаешь, что своей теорией интериоризации ты отрицаешь то понимание психики и сознания, которое существовало до сих пор в так называемой классической психологии? Отрицаешь изначальность, заданность души и всей душевной жизни, отрицаешь, что человек рождается пусть с несовершенной и неразвитой, но всё-таки душой, что она уже есть в нём и что носителем её является мозг.
Ты, наоборот, утверждаешь, что «душа» человеческая, человеческое сознание, психика, существует объективно вне нас в форме знаков и их значений [курсив мой – wolf-kitses], являющихся средством организации совместной, прежде всего трудовой деятельности людей, и что только в результате этого взаимного воздействия людей друг на друга возникает интерпсихическое в форме тех же знаков и значений, но направленное на организацию своей собственной деятельности? Душа не задана человеку изначально, а дана ему во внешней, чисто материальной форме!» (цит. по Словарю Л.С.Выготского, 2004: 16).
Известная максима Маркса: «анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны» вполне применима и здесь. Цитированные представления Л.С.Выготского могут быть полностью перенесены на животных, без каких-либо искажений и изъятий. Только труд заменится на социальную жизнь животных в сообществах[2].
Представление о несамостоятельности внутреннего мира человека и животных, его возникновении в результате интериоризации хорошо подтверждается тем, что влияние интериоризированного опыта на поведение проявляется не только в сфере «внешнего» поведения, но также и во «внутренней», мотивационно-ценностной сфере. Хотя она многим покажется заповедными угодьями т.н. «души» и «душевной жизни», это область социальной регуляции и контроля через механизмы послепроизвольного (послеволевого) поведения (Божович, 1968).
Многие поведенческие выборы в раннем детстве проходят стадию мотивационного конфликта, а их разрешение социально одобряемым образом требует некоторого волевого усилия. Например, во всех юннатских кружках преследуется т.н. лоханкизм — по имени Вассисуалия Лоханкина из «Золотого телёнка») – стремление «своё» есть самому и в одиночку: коллективизм и кружковое братство устойчиво связываются с приготовлением пищи «на всех» и коллективным приёмом пищи. Но поскольку семейное воспитание в малодетных семьях, да и общая социальная ситуация в «большом обществе» культивируют именно лоханкизм, то конфликт «внутренней» и «социальной» мотивации почти всегда возникнет у новичка.
 Решение такого конфликта происходит через волевое усилие по установлению самоконтроля. Оно стабильно поощряется извне ростом социабельности и ускоренной социализацией индивида, в результате которой культурно одобряемые выборы и реакции обретают видимость даже не произвольных, а импульсивных, и как бы становятся собственным выбором личности. Их реализация осуществляется «автоматически» и уже не переживается как конфликт между социальными ценностями и (условно) «индивидуальными» желаниями, так что происходит даже без внутреннего напряжения, свойственного начальным стадиям «вхождения» в этот коллектив (Божович, 1968).
Решение такого конфликта происходит через волевое усилие по установлению самоконтроля. Оно стабильно поощряется извне ростом социабельности и ускоренной социализацией индивида, в результате которой культурно одобряемые выборы и реакции обретают видимость даже не произвольных, а импульсивных, и как бы становятся собственным выбором личности. Их реализация осуществляется «автоматически» и уже не переживается как конфликт между социальными ценностями и (условно) «индивидуальными» желаниями, так что происходит даже без внутреннего напряжения, свойственного начальным стадиям «вхождения» в этот коллектив (Божович, 1968).
Повседневное поведение взрослых обывателей почти полностью регулируют «послепроизвольные» ценности и мотивации, «передающие» его под контроль собственной воли и собственных представлений только в ситуациях, переживаемых как «напряг», «беда» или «проблема».
Думаю, что изоморфные мотивационные механизмы лежат в основе реализации инстинкта в форме конкретной программы действий [адекватной и успешной лишь в определённой социальной среде определённого сообщества животных]. Мотивация, побуждающая демонстрировать во взаимодействиях ухаживания и угрозы, «происходит» от интериоризованных социальных связей, а не внутренних побуждений особи (к нападению, бегству, сексуальным или оборонительным реакциям, см. Хайнд, 1963).
Она в полной мере является социальной мотивацией именно тогда, когда удовлетворяет агрессивные, сексуальные или иные фундаментальные побуждения индивида. Во-первых, её появление требует социализации: приемлемой истории побед и поражений во взаимодействиях в данном сообществе и как следствие, удержание устойчивого статуса, как это показано для агрессивных связей и брачных альянсов птенцов в вольерных группировках озёрной чайки, van Rijn, Groothuis, 1987; Groothuis, 1989a, b). Она «питается» энергией индивидуальных побуждений (drives), благо они общие у всех особей, точней, энергией столкновения несовместимых стремлений друг с другом (конфликт мотиваций по Н.Тинбергену).
Однако мотивация к территориальной агрессии или к ухаживанию за партнёром с определёнными характеристиками «происходит» из тех социальных связей между индивидами, что «впечатаны» в их внутренний мир (Innerwelt) тем же способом (через мотивационный конфликт, волевое усилие, социальное одобрение и контроль, вызывающие интериоризацию), что в примере с послепроизвольным поведением человека.
В третьих, именно в силу «внешнего происхождения» из социальной сферы мотивации территориальной агрессии, ухаживания или агрессивного доминирования лишь у высших позвоночных (лишь у высших млекопитающих попугаев и врановых) обретают соответствующую эмоциональную окраску. До этого соответствующее возбуждение животного в эмоциональном отношении совершенно нейтрально, а по мере удаления от человека «идея мотивации трансформируется из естественнонаучной категории в удобный описательный термин» (Мантейфель, 1989). Например, тяжелораненые собака или обезьяна будут вопить и корчиться от боли, антилопа остаётся молчаливой и «безэмоциональной», даже когда хищник рвёт её на куски. Но эмоции боли и страха у копытных присутствуют в социальной сфере – какой метод позволил бы определить, они присущи самому животному или же «наведены» ситуацией?
Уже в силу этого наибольшие основания для реконструкции моделей внутреннего мира животных, включая психику и мотивационную сферу, дают наиболее стандартные, повторяемые реакции животных на внешние стимулы – демонстрации и ритуалы, нежели «психологические» попытки категоризации состояний в Innerwelt. В отношении всех позвоночных говорят об агрессии, заботе [о потомстве], сексуальности, защитном и оборонительном поведении, включая избегание боли, страхе, внимании, исследовательской мотивации (exploration). Но в психологии эти понятия основаны на интроспекции и словесных отчётах, то есть больше с тем, каким данное чувство в данной ситуации «именует» данный язык, чем с собственным переживанием.
Ещё точней, собственное переживание боли, радости, счастья, злости и других эмоций вторично по отношению к зафиксированным в языке оценкам данных чувств и данных состояний соответствующей культурой. Именно поэтому в условиях покоя, довольства и комфорта люди ищут острых ощущений в новых ситуациях, а их переживание оказывается неопределённо-амбивалентным (но всегда острым): смешение боли и счастья, наслаждения и ужаса и пр. (Коул, Скрибнер, 1977; Мацумото, 1997.).
«О душе и прочем – от человека к животным»
Так или иначе, представление Выготского, кажущееся чисто «философическим«, верно настолько, что сегодня мы знаем материальную основу процесса создания и «загрузки вовнутрь» индивидуального «я[3]». Это зеркальные нейроны, о которых мы рассказали ранее.
Как «Я» «загружается вовнутрь»
Выяснилась их роль в становлении собственного «я» через отслеживание реакций других, социально связанных с тобой, эффекты которого поддерживают «совместное внимание» и координируют «разделённую деятельность в паре». Благодаря этому «я» может выделиться на фоне «других«, обнаружив некоторые отличия твоей собственной схемы действий и/или схем восприятия ситуаций от «образцов«, воспринятых от «других« посредством зеркальных нейронов как описано выше[4].
Нам, людям, свойственно на почти инстинктивном[5] уровне взаимно координировать свои движения. Я складываю руки, вы складываете руки, я смотрю на вас, вы смотрите в сторону, вы оборачиваетесь, я смотрю в сторону, я смотрю на вас, вы начинаете новую фразу, вы смотрите на меня, я начинаю новую фразу — менуэт, да и только! При просмотре снятых на видео ситуаций, подобных описанным мной в предыдущих главах, это просто завораживает. Выясняется, кроме того, что чем сильнее люди нравятся друг другу, тем больше, как правило, они подражают один другому, и это тоже имеет смысл. Эта имитация и координация — тот клей, что скрепляет людей. Отсюда я с уверенностью могу сделать вывод, что зеркальные нейроны — неотъемлемая часть механизма, обеспечивающего как можно более легкое вхождение человека в окружающую его социальную обстановку.
Мы все, так сказать, в одной лодке, и зеркальные нейроны помогают нам извлекать из своего положения максимум возможного. Они нам необходимы как средство распознавать действия других людей, подражать им, понимать их намерения и чувства. Однако эти функции зеркальных нейронов, если вдуматься, задают любопытную загадку нейроспециалистам, изучающим вопрос о том, как мозг кодирует «чувство агента» (аgеnсу), то есть ощущение того, что данное действие — именно мое. Если я беру чашку кофе и другой человек делает то же самое, как мой мозг отделяет мое и его действие? Такое разграничение не вызывает вопросов на житейском уровне, но для исследователей очень большая проблема, как именно наш мозг делает это самоочевидным.
Ответ, я считаю, может дать самый первый наш эксперимент, в котором мы измеряли мозговую активность испытуемых, совершавших и имитировавших кистевые движения рукой. Рассказывая о нем в главе 2, я не упомянул о самом неожиданном из полученных результатов: теменной оперкул — область мозга, получающая сенсорную информацию от кистей рук (разжались они или сжались? каким был предмет, к которому притронулись пальцы, — податливым или острым?), — продемонстрировала при имитации более высокую активность, чем при простом выполнении того же движения85.
Это напоминает зеркально-нейронную активность, не правда ли? При имитации зеркальные нейроны, грубо говоря, суммируют активацию от наблюдения и выполнения. Проблема в том, что, насколько мы знаем, теменной оперкул не является областью с зеркальными нейронами и не играет зеркальной роли. При простом наблюдении за действием эта область не активировалась. Кистевые движения на протяжении всего эксперимента были, по существу, одни и те же, поэтому информация, которую эти клетки получали от движущихся кистей, тоже была, по существу, одинакова. Откуда в таком случае взялось различие в активации, похожее на то, что наблюдается у зеркальных нейронов? Мы были очень удивлены.
Мы сосредоточили внимание на том, что повышенная активность в теменном оперкуле была локализована в зоне правого полушария мозга, очень важной для формирования внутреннего представления о собственном геле и его конечностях — так называемой схемы тела. (Мы знаем это, потому что пациенты, у которых повреждена эта зона, могут страдать серьезными нарушениями телесного самосознания. Пациенту может казаться, что е его парализованной левой рукой все в порядке или что она вообще не его, а принадлежит его родственнику. Он даже может считать, что у него не две руки, а больше.) Повышенная активность при имитации, возникающая в этой важной для нашего телесного самосознания области мозга, может быть связана с заботой мозга о недопущении какой-либо путаницы между своим и чужим, создаваемой зеркальными нейронами, путаницы, из-за которой мы могли бы утратить «чувство агента». Это — механизм, выработанный мозгом для укрепления ощущения принадлежности нам наших собственных действий.
Вплоть до этого места в книге я старался показать, что важнейшая роль зеркальных нейронов состоит в том, чтобы обеспечить наше понимание чужих намерений и эмоций и облегчить тем самым социальное поведение. Они, кажется, чуть ли не так же «интересуются» другими людьми, как и тем человеком, в мозгу которого находятся. Характер их разрядки может породить впечатление, что зеркальные нейроны не имеют особого отношения к формированию чувства собственного «я». Такая мысль, во всяком случае, могла возникнуть у вас к настоящему моменту, и не без основания, однако в этой главе я постараюсь это впечатление несколько подправить. Позвольте мне начать с кое-каких теоретических соображений, из которых, возможно, самые интригующие — это выводы ряда авторов (особенно принадлежащих к феноменологической традиции, о которой я еще поговорю в последней главе), что мы не можем и не должны искусственно разделять «я» и «другого». Они, как говорят специалисты, «конституируются совместно». Философ-феноменолог Дэн Захави пишет об этом так:
«Они проливают свет друг на друга и могут быть поняты лишь во взаимосвязи».
На первый взгляд, может быть, и странновато, но, если вдуматься, смысл быстро появляется. Действительно, можем ли мы представить себе «я» иначе как в соотношении с другими, которыми «я» не является? Без «я» трудно дать осмысленное определение «другого», а без «другого» толком не поймешь, что такое «я». И разве могут зеркальные нейроны не играть тут роли? Ведь, судя по всему, картина их нейронной разрядки свидетельствует именно об этой неустранимой связи между «я» и другими, об их неизбежной взаимозависимости. Вместе с тем надо помнить, что интенсивность срабатывания зеркальных нейронов при собственных и чужих действиях неодинакова. Как мы не раз видели (фактически — в каждом из когда-либо проводившихся экспериментов с зеркальными нейронами), при своих действиях они разряжаются намного сильнее, чем при чужих. Таким образом, зеркальные нейроны воплощают как взаимозависимость «я» и других (разряжаясь и при собственных, и при наблюдаемых действиях), так и независимость (разряжаясь сильнее при своих действиях), которую мы в то же время ощущаем и в которой нуждаемся.
Моя теория о том, как зеркальные нейроны становятся нейронным «клеем», соединяющим «я» с другими, начинается с идеи о развитии зеркальных нейронов в мозгу младенца. Хотя эмпирических данных на этот счет пока нет, весьма правдоподобный сценарий представить себе нетрудно. Ребенок улыбается — родитель отвечает тем же. Через две минуты ребенок улыбается снова — родитель тоже.
Благодаря имитационному поведению родителя мозг ребенка ассоциирует моторный план, необходимый для улыбки, с видом улыбающегося лица. Готово! Зеркальные нейроны, «заточенные»под такое лицо, созданы. Когда ребенок в следующий раз увидит чью-либо улыбку, в его мозгу возникнет нейронная активность, связанная с моторным планом улыбки, и произойдет «симуляция» улыбки. Если эта модель формирования зеркальных нейронов в нашем мозгу справедлива — а это, я считаю, почти наверняка, — то «я» и другие неразделимо перемешаны в зеркальных нейронах.
Действительно, согласно этой модели, зеркальные нейроны в мозгу младенца формируются за счет взаимодействий между «я» и другими. Это ключевой момент, который необходимо иметь в виду для понимания роли зеркальных нейронов в социальном поведении людей. Логично, что, повзрослев, мы используем те же самые мозговые клетки для понимания внутренних состояний других людей. Но логично и то, что мы используем их же для формирования ощущения собственного «я»: ведь эти клетки возникают на той ранней стадии нашей жизни, когда поведение других людей является отражением нашего. С помощью зеркальных нейронов мы в других людях видим себя.
Еще один довод в пользу связи между «я» и другими, имитацией и зеркальными нейронами проистекает из эмпирических данных. Психологи развития изучали спонтанную имитацию у детей, разбитых на пары. В некоторых из этих пар оба ребенка к тому времени уже научились узнавать себя в зеркале; в других парах ни один этого еще не умел. Результаты были показательными. Дети, уже узнававшие себя в зеркале, имитировали друг друга гораздо больше, чем дети, которые еще этого не умели .
Самоузнавание и имитация идут рука об руку, потому что зеркальные нейроны зарождаются у нас, когда «другой» имитирует наше младенческое «я». Зеркальные нейроны — клеточный результат этой ранней моторной скоординированности между «я» и «другим» и они становятся теми нейронными элементами, что кодируют «действующих лиц» этой координации (которыми, разумеется, являются «я» и «другой»). Какое-го количество зеркальных нейронов должно, безусловно, быть у нас от рождения (на это указывают данные Мельцоффа об имитации у новорожденных). Однако мои рассуждения основаны на предположении, что система зеркальных нейронов во многом формируется имитационными взаимодействиями между «я» и другими, особенно на ранних этапах жизни (хотя я полагаю, по имитация человека другими может формировать го зеркальные нейроны и в более позднем возрасте, как увидим в следующей главе). Моя теория легко объясняет тот факт, что дети, способные к самоузнаванию, в то же время более склонны к имитации. Ведь обе эти функции осуществляются посредством одних и тех же нейронов — зеркальных, — и, когда они могут выполнять одну (самоузнавание), они могут выполнять и другую (имитацию).
Марко Якобони, 2011 «Отражаясь в людях. Почему мы понимаем друг друга». М.: United Press. С.155-163.
Роль взрослого нейрогенеза
У ребёнка некоторое количество зеркальных нейронов есть с рождения (что объясняет младенческое подражание не только у нас, но и у приматов). Однако их большая часть образуется потом, в ходе взаимодействий ребёнка со значимыми другими, как часть взрослого нейрогенеза. Этот процесс формирует индивидуальное «я», и по его завершении дети помнят случившееся.
Действительно, память о раннем детстве исчезает примерно в 7 лет, когда мы из «столона» в пересечении социальных связей делаемся индивидами.
«учёные обратили внимание на то, что вовсе не любые детские воспоминания стираются подчистую, ведь, в конце концов, для овладения речью нужна память, и какое-то чувственное восприятие внешнего мира тоже остаётся с человеком. Было решено, что для более сложных форм памяти, которые предполагают осмысление себя и своего отношения к миру, своей автобиографии, просто нет достаточно изощрённого нейронного аппарата, поэтому-то сложные воспоминания и не задерживаются в голове. Однако большинство таких работ проводились со взрослыми людьми, коих спрашивали о том, что и с какого возраста они помнят. Но не логичней ли проследить динамику памяти у самих детей? Да, это предполагает длительное многолетнее исследование, но это могло бы стать более продуктивным, чем попытки восстановить изменения памяти с помощью взрослых, у которых этой памяти давно нет.
…исследователи из Эморийского университета (США) … решили поработать с детьми. В эксперименте Патрисии Бауэр и Марины Ларкиной участвовали 83 ребёнка, за которыми наблюдали с трёх до девяти лет. Родители должны были расспросить своих чад о событиях, которые с ними произошли несколько месяцев назад: к примеру, детям надо было вспомнить посещение зоопарка или празднование дня рождения. Сам вопрос звучал как бы невзначай, непринуждённо, и ребёнок мог или вспомнить, что тогда было, или перевести разговор на какой-то другой эпизод из прошлого — скажем, с зоопарка на день рождения. И всё же целью учёных и родителей было как можно подробнее выяснить, что и как помнили дети.
Всё это происходило, когда испытуемым было три года, а потом, спустя несколько лет, исследователи снова возвращались и просили детей вспомнить, о чём шла речь тогда, когда им было по три года. При этом, что важно, всех детей разбили на несколько групп, к каждой из которых возвращались лишь однажды, то есть одних расспрашивали в пятилетнем возрасте, других — в шестилетнем, и т. д.
В журнале Memory авторы пишут, что заметный провал в памяти наступал между семью и восемью годами. Пяти–семилетние дети помнили от 63 до 72% «данных», а вот восьми–девятилетние — только 35% того, что происходило с ними в три года. При этом была выявлена любопытная особенность: в раннем возрасте (5–6 лет) ребёнок помнил больше событий, но их детальность и последовательность он помнил не очень хорошо. По мере взросления сами события забывались, но те, которые оставались в памяти, обретали подробности. Авторы работы объясняют это тем, что более прочные воспоминания вступают во взаимодействие с улучшающимися речевыми способностями, а потому структура первых чётче проявляется.
Как бы то ни было, исследователи полагают, что им удалось точнее определить время инфантильной амнезии»
Источник Компьюлента
Примечания
[1]Совместное припоминание, как развернутое повествовательное («нарративное») действие, не сводится только к эффектам совместного внимания. В одной из работ (Pipe et al., 1999) детям 5 лет предлагалась новая игровая ситуация, которая детально описывалась взрослым либо с использованием названий всех предметов, либо столь же подробно, но с большим числом дейктических (указательных) оборотов и слов, таких как «это», «туда», «с тем». Хотя дейктическая речь поддерживает состояние совместного внимания (см. 7.4.3), последующее вербальное припоминание, равно как и невербальное разыгрывание ситуации ребенком, оказалось во втором случае заметно хуже.
Например, ученики существующих во многих странах мира школ Корана демонстрируют способность заучивания наизусть сотен страниц классического арабского языка, хотя этот язык часто остается для них полностью непонятен.
[2] И механизм интериоризации другой: прямая спецификация состояния животного результатами его поведения вместо работы зеркальных нейронов, описанной ниже.
[3] забавным образом религиозные представления, что личность определяется «вкладыванием» бессмертной души, которая «искорка» божественного, в этом противопоставлении неотличимы от биологизаторских. Поскольку это тоже эндогенная детерминация, причём благодаря божественной мудрости точно подогнанная к индивидуальным особенностям соответствующих тел.
[4]Как известно, развить индивидуальность можно лишь в коллективе, выделившись в кругу равных, отсюда главное — и самое незамеченное сегодня достоинство социального равенства — усиленное развитие индивидуальных талантов.
[5] «Инстинктивное» здесь – это метафора, см. про шахматистов.