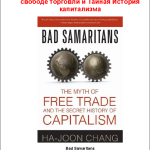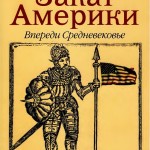Где вино, там и драка. Иллюстрация из Tacuinum sanitatis – популярного трактата 14-15 веков о здоровье и жизни. Около 1390-1400. Первоначально книга была написана под названием Taqwin-al-Sihna на арабском языке в 11 веке Убубхасимом де Бальдах или Ибн Бутланом / L’ébriété. Ibn Butlan, Tacuinum sanitatis, vers 1395, Paris BnF, Nouvelle acquisition latine 1673, folio 88 verso. Dispute between drunks
«Завтра мне читать лекцию об опьянении Ноя; надо сегодня вечером как следует напиться, чтобы со знанием дела говорить об этой скверной привычке». Доктор Кордато ответил: «Ничего подобного! Наоборот, вы вовсе не должны пить.» И тогда Лютер сказал: «У каждого народа свои пороки, к ним, конечно, следует относиться снисходительно. Чехи обжираются, вандалы воруют. Немцы пьют как сапожники; как, дорогой Кордато, можно распознать немца, особенно когда он не любит ни музыки, ни женщин, если не по привычке к пьянству?».
Из застольной беседы, записанной учениками Лютера в конце 1536 г.
(Массио Монтанари, 2009. «Голод и изобилие. История питания в Европе», с.134).
Это хороший пример того, как меняются национальные стереотипы. Тогда немец был лентяй, разгильдяй и пьяница. А образцамми точности, организованности и искусности в механике считались итальянцы. Ещё примеры того же самого приводит Ха Чжун Чханг в «Недобрых самаритянах«:
Ленивые японцы и вороватые немцы
Содержание
Некоторые культуры неспособны на экономическое развитие?
Объехав множество фабрик в [одной] развивающейся стране, австралийский консультант по управлению сообщил пригласившим его местным чиновникам:
«Мои впечатления от вашей дешѐвой рабочей силы довольно скоро вылились в разочарование. Без сомнения им платят мало, но и [их] отдача под стать; повидав, как ваши люди работают, я получил впечатление, что вы – всем довольный и нетребовательный народ, для которого времени не существует.
Когда я говорил с некоторыми менеджерами, они сообщили мне, что невозможно изменить обычаи национального наследия [национальный характер]».
Можно понять озабоченность австралийского консультанта тем, что работники той страны, в которую он приехал, не имели правильной трудовой этики. И стоит отметить, он выразился довольно вежливо. Он мог бы прямо назвать их лентяями. Неудивительно, что и страна была бедна – уровень [подушевого] ВВП составлял менее четверти от австралийского.
Со своей стороны местные менеджеры согласились с австралийцем, но оказались достаточно умны, чтобы понять, что «обычаи национального наследия» [национальный характер] или культуру так просто не изменишь, если это вообще возможно. Как заключил в своей богатой на плодотворные идеи работе «Протестантская трудовая этика и дух капитализма» немецкий экономист и социолог XIX века Макс Вебер, есть некоторые культуры, вроде Протестантизма, которые просто лучше подходят для экономического развития, чем другие.
[Увы, сопоставление на одном основании — католиков с протестантами в одной стране, тем более что этика индивидуальна — показывает отсутствие различий по важным для идеи Вебера параметрам, т.е. «дух капитализма» не в индивидуальной вере и/или культуре, но в условиях жизни общества и страны, достаточно независимых от культуры, что и показывает автор далее. Прим.публикатора].
Однако рассматриваемой страной являлась Япония в 1915 году1.327 Что-то неверное есть в том, что какой-то австралиец, ([представитель] народа, известного сегодня своим умением весело проводить время), назвал японцев ленивыми. Но большинство людей с Запада [именно] так видели Японию столетие назад.
В своей книге 1903 года «Развитие японцев» американский миссионер Сидней Гулик (Sidney Gulick) заметил, что многие японцы «производят впечатление … ленивых и совершенно безразличных к течению времени»2. А Гулик не был поверхностным наблюдателем. Он прожил в Японии 25 лет (1888–1913 гг.), хорошо выучил японский язык и преподавал в японских университетах. После своего возвращения в США он стал известен своей кампанией за расовое равноправие, [которую он вел] от лица американцев азиатского происхождения.

Грех обжорства и пьянства. Сцена в таверне 14 века / Miniature of a scene in a tavern illustrating Gluttony with men drinking, and below a cellarer passing up a drink. BL Additional 27695, f. 14. Author Cocharelli. Title Cuttings from a Latin prose treatise on the Seven Vices. Origin Italy, N. W., Genoa. Date c. 1330 — c. 1340. Language Latin. Script Gothic. Artists Master of the Cocharelli Codex (active in Genoa, ca. 1330)
Тем не менее, он повидал достаточно подтверждений культурного стереотипа [восприятия] японцев, как «беспечных» и «эмоциональных» людей, которым присущи такие качества, как «легкомыслие, отсутствие малейшей заботы о будущем, жизнь по большей части сегодняшним днем»3. Сходство между этим наблюдением и [другим], сделанным в сегодняшней Африке, в данном случае самим африканцем – камерунским инженером и писателем Даниэлем Этунга-Мангуэле (Daniel Etounga-Manguelle), просто поразительное:
«Африканец, укорененный в культуре своих предков, настолько убежден, что прошлое может только повторяться, что о будущем он заботится только поверхностно. Но ведь без понимания будущего в динамике нет планирования, нет предвидения, нет созидания сценариев; другими словами нет политики, которая влияла бы на течение событий»4.
По завершении своего азиатского турне 1911–1912 гг., Беатрис Уэбб (Beatrice Webb), известная руководительница Фабианского общества британских социалистов, охарактеризовала японцев, как имеющих «ужасные представления о досуге и совершенно невыносимые взгляды на личную независимость5». Она утверждала, что в Японии «совершенно очевидно нет никакого стремления учить людей думать6». Еще более едко она высказалась о моих предках. Корейцев она описала как
«12 миллионов грязных, вырождающихся, мрачных, ленивых и лишенных религии дикарей, которые болтаются без дела в грязных белых одеяниях самого неуместного сорта и живущих в грязных мазанках7».
Не удивительно, что она считала, что «если кто-нибудь сможет поднять корейцев из их нынешнего варварского состояния, я считаю, что это будут японцы», несмотря на то, что об японцах она была невысокого мнения8.
И это не были просто западными предубеждениями в отношении восточных народов. Британцы говорили подобные вещи и про немцев. До немецкого экономического подъема середины XIX в., британцы привычно считали немцев «тупыми и мрачными людьми9»». «Лень» было тем словом, которое часто связывали с немецкой натурой10. Мэри Шелли (Mary Shelley), написавшая «Франкенштейна», писала в раздражении после особенно досадной перебранки с ее немецким кучером: «немцы никогда не торопятся11». И это говорили не только британцы. Французский производитель, нанимавший немецких работников, жаловался, что они «работают как и когда им заблагорассудится12».
Еще британцы считали немцев тугодумами. По словам Джона Рассела (John Russell), писателя и путешественника 1820-х годов, немцы были
«работящими, непритязательными людьми … не наделенными ни остротой восприятия, ни живостью чувств».
В частности, по словам Рассела, они не были открыты новым идеям:
«проходит много времени, прежде чем [немец] приходит к пониманию смысла того, что для него внове, и трудно пробудить в нем рвение в постижении оного13».
Не удивительно, что они «не отличались ни смекалкой, ни энергией», как заметил другой британский путешественник середины XIX века14. Немцев также считали слишком большими индивидуалистами, неспособными к сотрудничеству друг с другом. Немецкая неспособность к сотрудничеству, по мнению британцев, наиболее ярко проявлялась в плохом качестве и плохом же содержании своей общественной инфраструктуры, которая была настолько плоха, что Джон Макферсон (John McPherson), вице-король Индии (и следовательно, вполне привычный к ненадежным дорожным условиям [человек]) написал:
«Я обнаружил, что дороги в Германии столь дурны, что я обратил свой путь в Италию15».
Сравните это с замечанием африканского автора, которого я уже приводил выше:
«Африканские общества — как футбольная команда, в которой из-за личного соперничества и отсутствия командного духа, один игрок не пасует другому из страха, что последний может забить гол16».
Британские путешественники начала XIX в. находили немцев еще и жуликоватыми –
«ремесленник и лавочник обманывают вас, где только могут, хотя бы и на невообразимую мелкую сумму, лишь бы только обжулить … Такое мошенничество повсеместно»,
писал сэр Артур Брук Фолкнер (Arthur Brooke Faulkner), британский военный врач17.
И наконец, британцы считали немцев чрезмерно эмоциональными. [Правда] сегодня-то многие британцы считают, что у немцев практически генетическая эмоциональная недостаточность. И тем не менее, говоря о чрезмерных немецких эмоциях, сэр Артур заметил, что
«некоторые смехом разгоняют все свои несчастия прочь, а некоторые неизменно предаются меланхолии18».
Сэр Артур был ирландцем, так что [сам факт того, что] он называет немцев эмоциональными, сродни тому как если бы финн назвал ямайцев мрачным народом, в соответствии с сегодняшними культурными стереотипами, [разумеется].
Вот вам и пожалуйста. Столетие назад японцы были ленивыми, а не трудолюбивыми; чрезмерно независимого склада (даже для британского социалиста!), а не преданными «тружениками-муравьями»; эмоциональными, а вовсе не непроницаемыми; беспечными, а не серьѐзными; живущими сегодняшним днѐм, а не строящими планы на будущее (что проявляется в зашкаливающих показателях сбережений). Полтора столетия назад немцы были праздными, а не эффективными; индивидуалистами, а не склонными к сотрудничеству; эмоциональными, а не рациональными; туповатыми, а не толковыми; бесчестными и вороватыми, а не законопослушными; беззаботными, а не дисциплинированными.
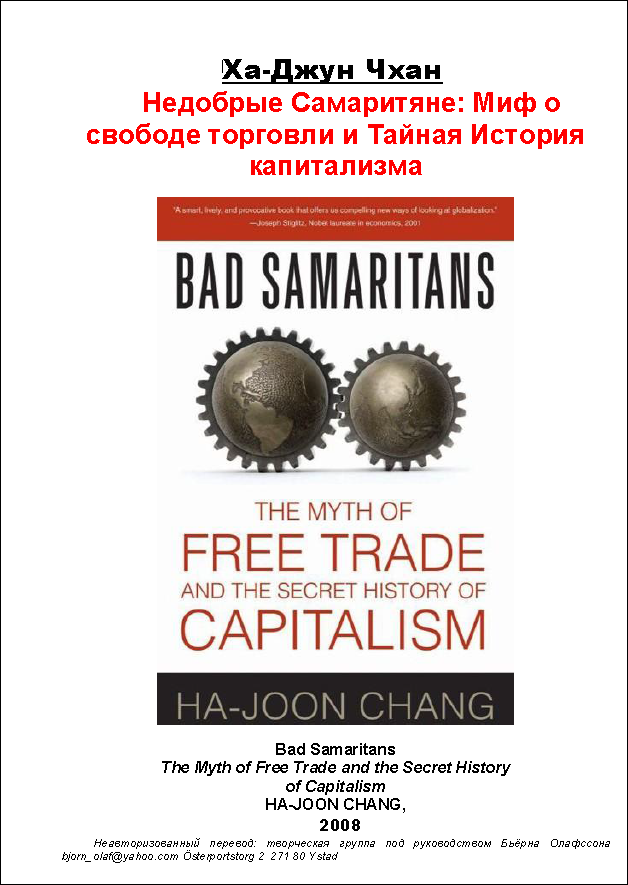 Эти характеристики озадачивают по двум причинам. Во-первых, если у японцев и немцев были такие «плохие» культуры, как они так разбогатели? Во-вторых, почему тогдашние японцы и немцы так отличаются от их потомков сегодня? Как они смогли так полностью изменить свои «обычаи национального наследия»?
Эти характеристики озадачивают по двум причинам. Во-первых, если у японцев и немцев были такие «плохие» культуры, как они так разбогатели? Во-вторых, почему тогдашние японцы и немцы так отличаются от их потомков сегодня? Как они смогли так полностью изменить свои «обычаи национального наследия»?
В свое время я отвечу на эти вопросы. А пока что мне нужно разъяснить некоторые широко распространившиеся недоразумения по поводу взаимоотношений между культурой и экономическим развитием.
Влияет ли культура на экономическое развитие?
Представление о том, что культурные различия объясняют разницу в экономическом развитии различных обществ, бытует уже очень давно. Мысль, лежащая в его основе, очень проста. Разные культуры порождают людей с различными ценностями, которые проявляются в разных формах поведения. Поскольку некоторые из этих форм поведения более способствуют экономическому развитию, чем другие, то страны, чья культура порождает больше способствующих развитию форм поведения, в экономическом смысле преуспеют больше.
Самюэль Хантингтон (Samuel Huntington), ветеран американской политологии и автор острой книги «Схватка цивилизаций» («The Clash of Civilizations») сформулировал эту мысль кратко. Объясняя разное экономическое положение Южной Кореи и Ганы, стран, которые были на одинаковом уровне экономического развития в 1960-е годы, он сказал:
«Несомненно, многие факторы сыграли здесь свою роль, но … культура должна быть главным объяснением. Южные корейцы ценили бережливость, инвестиции, трудолюбие, образование, организованность и дисциплину. У ганийцев были другие ценности. Короче, культура считается19».
Мало кто станет спорить, что народ, демонстрирующий такие формы поведения, как
«бережливость, инвестиции, трудолюбие, образование, организованность и дисциплину»
будет экономически успешным. Но теоретики от культуры утверждают нечто большее. Они утверждают, что такие формы поведения в основном или даже полностью неизменны, потому что они детерминированы [породившей их] культурой. И если экономический успех действительно определяется «обычаями национального наследия», то некоторым народам суждено быть более успешными, чем другим, и ничего с этим не поделаешь. Некоторым бедным странам просто придется оставаться таковыми.
Основанное на культурных различиях объяснение экономического развития оставалось популярным вплоть до 1960-х годов. Но в [наступившую] эпоху гражданских прав и деколонизации люди начали чувствовать, что у этих объяснений имеется нотки культурного превосходства (если не расизма). В итоге в них перестали верить. Но в последнее десятилетие или около того, подобные объяснения вернулись. Они опять вошли в моду как раз тогда, когда [наи]более доминирующие культуры (в узком смысле – англо-американская, в более широком – европейская) начали ощущать «угрозу» со стороны других культур – конфуцианства в экономической сфере, ислама – в мире политики и международных отношений20.
Они [основанные на культурных различиях объяснения] также придали очень удобное оправдание Недобрым Самаритянам – неолиберальная политика плохо работает не по причине присущих ей внутренних проблем, а потому что люди, применяющие ее, имеют «неверные» ценности, которые уменьшают ее эффективность.
В нынешнем ренессансе подобных представлений некоторые теоретики от культуры вообще-то не говорят о культуре как таковой. Признавая, что культура – слишком широкая и аморфная концепция, они пытаются выделить только те компоненты, которые, по их мнению, наиболее тесно связаны с экономическим развитием. К примеру, в своей книге 1995 года «Доверие» (Trust), Фрэнсис Фукуяма (Francis Fukuyama), американский нео-кон и политический комментатор, утверждает, что наличие или отсутствие доверия, выходящего за пределы круга семьи, самым серьезным образом влияет на экономическое развитие.
Он утверждает, что отсутствие такого доверия в культурах таких стран, как Китай, Франция, Италия и (до некоторой степени) Корея, мешает им эффективно управлять крупными фирмами, что критически важно для современного экономического развития. Именно поэтому, утверждает Фукуяма, общества высокого доверия, такие как Япония, Германия и США экономически более развиты.
Произносится вслух слово «культура» или нет, суть аргумента остается прежней – разные культуры дают разное человеческое поведение, что выражается в разной степени экономического развития в различных обществах. Дэвид Лэндис (David Landes), выдающийся американский историк экономики и лидер возрождения [подобных] культурных теорий, заявляет, что: «в культуре-то и заключается все дело21».
Разные культуры порождают людей с различным отношением к работе, сбережениям, образованию, сотрудничеству, доверию, власти и несчетному количеству других вещей, которые влияют на экономический прогресс общества. Но это суждение нас ни к чему не приводит. Как мы сейчас увидим, культуру очень трудно точно определить. И даже если бы мы могли [это сделать], невозможно ясно установить является ли данная конкретная культура по сути своей полезной или вредной для экономического развития. Позвольте мне объяснить.
Что такое культура?
Многие люди с Запада принимают меня за китайца или японца. Это понятно. Со [своими] раскосыми глазами, прямыми черными волосами и выдающимися скулами, восточные азиаты «все на одно лицо», по крайней мере для западного человека, который не распознает все тонкие различия черт лица, стиля поведения и манеры одеваться у людей из разных стран Восточной Азии. Людям с Запада, которые извиняются за то, что приняли меня за китайца, я говорю «ничего, все нормально», потому что большинство корейцев называют всех людей с Запада «американцами» — что некоторым европейцам может совсем не понравиться. Для неискушенного корейца, — я отвечаю им, — все люди с Запада выглядят одинаково, со своими большими носами, круглыми глазами и избыточной растительностью на лице.
Этот опыт предостерегает против деления людей на слишком широкие категории. Конечно, что такое «слишком широкие категории» зависит от цели такого подразделения. Если мы сравниваем человеческий мозг, скажем, с мозгом дельфина, то даже такая всеохватная категория как «Homo sapiens» может быть адекватной. Но если мы изучаем, как культура влияет на экономическое развитие, даже такая относительно узкая категория как «корейцы» может оказаться проблематичной. А такие более широкие категории, как «христиане» или «мусульмане» больше скрывают, чем открывают.
Однако в большинстве культуралистских тезисов, культура определяется очень произвольно. Нам нередко предлагают такие грубые категории, как «Восток»-«Запад», критикой которых я даже не стану себя затруднять. Очень часто нам предлагают «религиозное» подразделение, такие категории как «христиане» (которых иногда совмещают с «иудеями» в «иудео-христиан», но чаще подразделяют на «католиков» и «протестантов»), «мусульмане», «иудеи», «буддисты», «индусы» и «конфуцианцы» (последняя категория особенно неоднозначна, потому что это не религия).
Но задумайтесь на минутку об этих категориях. В рамки якобы однородной категории «католики» попадают и ультраконсервативное движение «Опус Деи» (Opus Dei), широкую известность которому придал бестселлер Дэна Брауна (Dan Brown) «Код да Винчи», и «Теология освобождения» («Teología de la liberación») левого толка, выраженная известным высказыванием бразильского архиепископа городов Олинде и Рисифе (Olinda and Recife) Дома Эльдера Камара (Dom Hélder Câmara):

Элдер Пессоа Камара, архиепископ Олинды и Ресифи. «Теолог освобождения» и сам освободившийся от заблуждений интегризма
Эти две «католические» субкультуры порождают людей с очень различными подходами в отношении накопления богатства, перераспределения доходов и общественных обязанностей.
Конфуцианство названо в честь Конфуция, это латинизированная версия имени великого китайского политического философа Kong Zi, который жил в VI в. до нашей эры. Конфуцианство – это не религия, потому что у него нет богов или рая и ада. Это учение в основном о политике и этике, но также оно затрагивает организацию семейной жизни, общественные церемонии и этикет. Несмотря на свои взлеты и падения, конфуцианство оставалось основой китайской культуры, с того момента, как оно стало официальной государственной идеологией во времена династии Хань (206 г. до н.э.- 220 г. н.э.). В последующие столетия оно распространилось и в другие страны Восточной Азии, такие как Корея, Япония и Вьетнам.
Или возьмем другой пример: [в мире] есть ультраконсервативные мусульманские общества, которые серьезно ограничивают участие женщин в общественной жизни. И в то же самое время, половину специалистов Центрального банка Малайзии составляют женщины – гораздо большая доля, чем в любом другом Центральном банке в, якобы, более «феминизированных» «христианских» странах. Или еще пример: некоторые полагают, что Япония преуспела экономически, из-за ее уникальной ветви конфуцианства, в которой упор делается на верность и преданность, а не на личное самосовершенствование, как в китайской или корейской ветвях22. Согласны вы с этим обобщением или нет (подробнее об этом вопросе далее), оно демонстрирует, что существует более одного вида конфуцианства.
Если такие категории, как «конфуцианцы» или «мусульмане» слишком широки, может быть, стоит взять страны как культурные единицы? К сожалению, это проблемы не решает. Как культуралисты сами с готовностью признают, [каждая] страна зачастую содержит различные культурные группы, особенно такие большие и культурно разнообразные, как Китай и Индия. Но даже в Корее, одном из самых культурно однородных обществ в мире, между регионами имеются значительные культурные различия. В частности, люди с юго- востока (Kyungsang) считают людей с юго-запада (Cholla) умными, но двуличными и совершенно не заслуживающими доверия. Люди с юго-запада в долгу не остаются и считают тех, кто с юго-востока, грубыми и агрессивными, хотя и решительными, а также хорошо организованными.
Не будет большой натяжкой сказать, что стереотипы этих двух корейских регионов, схожи с теми стереотипами, которые немцы и французы имеют в отношении друг друга. Культурная рознь между этими двумя корейскими регионами настолько сильна, что некоторые семьи даже не позволяют своим детям создавать брачные союзы с семьями из другого региона. Так есть ли единая «корейская» культура или нет? И если все так непросто даже для Кореи, нужно ли даже упоминать другие страны?
Я мог бы и продолжить, но думаю, что проиллюстрировал свою мысль: такие широкие категории, как «католики» или «китайцы» просто слишком грубы, чтобы иметь аналитическое значение, и даже [отдельная] страна является слишком большой культурной единицей, чтобы [строить на ее основе какие бы то ни было] обобщения. Культуралисты, конечно, могут возразить, что нужно пользоваться более узкими категориями, как «мормоны» или «японские конфуцианцы», вместо широких «христиане» или «конфуцианцы». Если бы все было так просто! Ведь есть куда более фундаментальные проблемы с теориями культуралистов, к которым я сейчас хочу обратиться.
Д-р Джекилл против м-ра Хайда
С момента [возникновения] Восточно-Азиатского экономического «чуда» стало очень модно считать, что именно конфуцианская культура, по крайней мере частично, лежит в основе экономических успехов региона. Подчеркивалось, что конфуцианство делает [особый] упор на прилежную работу, образование, бережливость, сотрудничество и покорность властям. Казалось очевидным, что культура, которая поощряет концентрацию человеческого капитала (с упором на образование) и физического капитала (с упором на бережливость) и побуждает к сотрудничеству и дисциплине, должна быть полезной для экономического развития.
Но до Восточно-Азиатского экономического «чуда» люди обычно винили конфуцианство в недоразвитости региона. И они были правы. Ибо в конфуцианстве есть много аспектов, которые вредны для экономического развития. Позвольте мне привести наиболее важные из них.
Конфуцианство не рекомендует людям избирать себе инженерные или бизнес-профессии, которые необходимы для экономического развития. На самой вершине традиционной конфуцианской общественной системы находятся ученые-чиновники [просвещенные чиновники]. Вместе с профессиональными воинами, которые находятся ступенью ниже, они образуют правящий класс. Этот правящий класс руководит иерархической [системой] простолюдинов, состоящей (в порядке убывания значимости) из крестьян, ремесленников и купцов (ниже них находятся рабы). Между крестьянством и другими подчиненными сословиями проходит важнейший водораздел. По крайней мере теоретически, отдельные крестьяне могли войти в правящий класс, если они успешно сдавали конкурсный экзамен на государственную службу (периодически так и случалось).
Ремесленники и купцы до экзаменов даже не допускались. Хуже того, экзамены на государственную службу испытывали кандидатов только на знание классических текстов конфуцианства, и поэтому правящий класс с презрением относился к практическим знаниям. В XVIII веке корейские политики-конфуцианцы вырезали своих оппонентов «пачками» [из-за разногласий] по вопросу, как долго следует носить траур королю по случаю смерти его матери (один год или три года). Ученым- чиновникам [просвещенным чиновникам] полагалось жить в «опрятной бедности» (хотя на практике частенько бывало не так) и поэтому они деятельно презирали стремление к богатству. В сегодняшних реалиях, конфуцианство поощряет талантливых людей изучать право или экономику, с целью стать чиновниками, нежели инженерами (ремесленниками) или бизнесменами (купцами) – профессии, которые гораздо более непосредственно вносят вклад в экономическое развитие.
Еще конфуцианство не способствует творчеству и предпринимательству. Оно содержит жесткую общественную иерархию и, как я уже говорил, не дает определенным сегментам общества подняться наверх. Эта негибкая иерархия поддерживается упором на преданность вышестоящим и почтение к власти, что плодит конформизм и душит творчество. Культурный стереотип [о том, что] Восточные азиаты хороши во всем механическом, не требующем особенного творчества [смекалки, воображения] основан [именно] на этом аспекте конфуцианства.
Также можно утверждать, что конфуцианство препятствует верховенству закона (rule of law). Многие, в особенности неолибералы, считают, что верховенство закона критически важно для экономического развития, потому что оно является фундаментальной гарантией против произвольной экспроприации собственности правителями. Без верховенства закона, как утверждается, права собственности не могут быть в безопасности, что в свою очередь не располагает людей вкладывать средства и создавать богатство. Может конфуцианство и не одобряет произвола в правлении, но также верно, что оно не одобряет верховенства закона, которое оно считает неэффективным, что видно из следующего известного изречения Конфуция:
«Если править с помощью закона, и поддерживать порядок наказаниями, то народ устрашится, но не познает стыда [не усовестится]. Если править добродетелью, а порядок поддерживать справедливостью, народ познает стыд [усовестится] и станет добродетельным».
И я с ним согласен. При строгих правовых санкциях, люди будут законопослушны из страха наказания, но чрезмерный упор на правовые запреты заставит их чувствовать, что им не доверяют, как моральным личностям [людям с совестью]. Без такого доверия, люди не делают следующего шага, когда их поведение уже нравственно, а не просто законопослушно. Признавая все это, нельзя отрицать, что очернение верховенства закона конфуцианством делает систему уязвимой для произвола правителей, ибо что вам делать, когда ваш правитель не добродетелен?
Так что же является точным портретом конфуцианства? Культура, которая ценит «бережливость, инвестиции, трудолюбие, образование, организованность и дисциплину», как сформулировал Хантингтон (Huntington) в отношении Южной Кореи, или культура, которая принижает практические занятия, мешает предпринимательству и препятствует верховенству закона?
Оба они верны, только первый выделяет те элементы, которые хороши для экономического развития, а второй – только те, что вредны для него. И вообще, для того, чтобы создать однобокое представление о конфуцианстве, не требуется даже отбирать разные элементы. Один и тот же элемент культуры можно истолковать как имеющий положительное или отрицательное воздействие, в зависимости от того, какой результат вы хотите получить. Отличный пример – преданность. Как я уже упоминал, некоторые считают, что упор на преданность делает японскую ветвь конфуцианства более соответствующей экономическому развитию, нежели прочие ветви. А другие считают, что как раз упор на преданность – это большой недостаток конфуцианства, потому что она душит независимое мышление, и тем самым инновации.
[Отсюда понятно, что «культура» — не целостность, а россыпь, вроде книг, выстроенных или чаще сваленных в чулане вместе с другими вещами. Это происходит в том числе потому, что культура, как и город, «живёт связями», контактами и метисацией с другими культурами; «сохраняемая от враждебных влияний, она упрощается и деградирует. Однако здесь есть тонкая разница между заимствованием того, что требуется тебе самому, и копированием того, что навязывает враг или конкурент. СССР делал первое, РФ — второе. Прим.публикатора]
И это не только у конфуцианства такая «раздвоенная личность», как у главного героя Роберта Льюиса Стивенсона (Robert Louis Stevenson) Доктора Джекила и мистера Хайда. Такое же упражнение можно проделать с системой убеждений любой культуры. Возьмем к примеру ислам.
Многие сегодня полагают, что мусульманская культура препятствует экономическому развитию. Ее нетерпимость к многообразию обескураживает предпринимательство и творчество. Ее сосредоточенность на загробной жизни делает верующих менее заинтересованными в мирских делах, таких как накопление богатства и рост производительности23. Рамки дозволенного для женщин не только растрачивают понапрасну таланты половины населения, но также понижают возможное качество будущих трудовых резервов: плохо образованные матери не могут дать своим детям полноценного питания или помочь в учебе, тем самым уменьшая их успехи в школе. «Воинственные» тенденции, (выраженные в концепции джихада или священной войны против неверных) прославляют войну, а не зарабатывание денег. Короче говоря, совершеннейший мистер Хайд.
С другой стороны, мы можем сказать, что в отличие от многих других культур, в мусульманской культуре нет жесткой общественной иерархии (поэтому, многие индусы низшей касты в Южной Азии перешли в ислам). Следовательно трудолюбивые и изобретательные люди вознаграждаются. Кроме того, в отличие от конфуцианской иерархии, в ней нет презрения к занятиям в промышленности или бизнесу. Пророк Мухаммад [мир ему и благословение!] сам был купцом. И, будучи религией купцов, ислам содержит высокоразвитое понимание договорных обязательств – даже на свадебных церемониях подписывают брачный контракт [в котором жена оказывается не стороной договора, а предметом сделки [исходно между родами]. Прим.публикатора].
Такая ориентация стимулирует верховенство закона и правосудия24 – в мусульманских странах имелись квалифицированные судьи на много веков раньше христианских стран. [В исламе] также имеется упор на рациональное мышление и познание; примечательно, что Пророк [да благословит его Аллах и приветствует!] сказал:
«чернила ученого более священны, чем кровь мученика».
Это — одна из причин, по которой арабский мир некогда возглавлял весь мир в математике, [естественных] науках и медицине. Кроме того, несмотря на имеющиеся разногласия в интерпретации Корана, неоспоримо, что на практике большинство средневековых мусульманских обществ было намного более толерантным, чем христианские общества, в конце концов, именно поэтому многие иберийские евреи бежали в Оттоманскую империю, после христианской реконкисты Испании в 1492 году.
Таковы истоки картинки Доктора Джекилла мусульманской культуры: она поощряет социальную мобильность и предпринимательство, уважает торговлю, имеет склад ума, основанный на договорных отношениях, делает упор на рациональное мышление и толерантна к разнообразию, а следовательно, к творчеству.
Это наше небольшое умственное упражнение на тему Джекилла и Хайда демонстрирует, что нет культуры, которая была бы безоговорочно хороша или плоха для экономического развития. Все зависит от того, что люди делают с «сырьем» своей культуры. Могут преобладать положительные или отрицательные элементы. Два [состояния] общества в разные моменты времени или [два общества] расположенные в различных географических точках и имеющие дело с одним и тем же исходным материалом (ислам, конфуцианство или христианство), могут дать и [на практике] давали примечательно различные поведенческие паттерны.
Не способное разглядеть этого, культуралистское [основанное на культурных различиях] объяснение экономического развития всегда было не более, чем подведением задним числом теоретической базы теми, кто горазд задним умом. Так, на заре капитализма, когда большинство экономически успешных стран оказались протестантскими христианскими, многие утверждали, что протестантизм уникальным образом подходит для экономического развития. Когда католические Франция, Италия, Австрия и южная Германия быстро развивались, особенно после Второй мировой войны, уже христианство, а не только протестантизм, стало «чудесной» культурой. Пока не разбогатела Япония, многие думали, что Восточная Азия не развита из-за конфуцианства. Но когда Япония достигла успеха, этот тезис подправили, и стали утверждать, что Япония так быстро развивается, потому что в ее уникальной ветви конфуцианства упор делается на сотрудничество, а не на личное самосовершенствование, которое, якобы выше ценится в китайской и корейской ветвях.
А потом, когда у Гонконга, Сингапура, Тайваня и Кореи дела тоже пошли в гору, этот вывод о различных ветвях конфуцианства [быстро] забыли. И внезапно конфуцианство в целом стало наилучшей культурой для экономического развития, потому что оно делает упор на трудолюбии, бережливости, образовании и подчинении властям. Сегодня, когда мусульманские Малайзия и Индонезия, буддистский Таиланд и даже индуистская Индия экономически преуспевают, мы можем вскоре ожидать появления новых теорий, которые будут трубить как исключительно все эти культуры подходят для экономического развития (и как их авторы давным-давно об этом знали).
Ленивые японцы и вороватые немцы
Пока что я продемонстрировал, как трудно определить [понятие] культуры и понять [всю] ее сложность, не говоря уже о том, чтобы найти какую-нибудь одну, идеально подходящую для экономического развития. Но если дать определение культуре представляет определенную трудность, то попытка с ее помощью объяснить что-либо другое (например, экономическое развитие), представляется предприятием, преисполненным еще больших проблем.
Все вышесказанное не отрицает, что поведение людей влияет на экономическое развитие. Но главная мысль здесь — что поведение людей не определяется культурой. Кроме того, культура меняется, так что неверно рассматривать культуру как [раз и навсегда предрешенную] судьбу, что многие культуралисты имеют обыкновение делать. Чтобы понять это, давайте вернемся ненадолго к тем самым загадкам ленивых японцев и вороватых немцев.
Одна из причин, по которой немецкая или японская культура выглядели в прошлом так плохо [в разрезе] экономического развития, заключается в том, что наблюдатели из богатых стран были склонны к предубежденности против иностранцев (в особенности бедных иностранцев). Но также имел место элемент подлинного заблуждения, в силу того факта, что богатые страны организованы совершенно иначе, нежели бедные.
Возьмем лень – наиболее часто приводимую «культурную» особенность людей в бедных странах. Люди в богатых странах обычно считают, что бедные страны бедны, потому что их народы ленивы. Но вообще-то, в бедных странах многие люди работают длинный рабочий день в каторжных условиях. Почему они кажутся ленивыми, так это потому, что зачастую им недостает «индустриального» чувства времени. Когда вы работаете примитивными инструментами или с помощью простейших машин, вам не нужно строго соблюдать сроки и временные рамки. Если вы работаете на автоматизированном фабричном производстве, то это – исключительно важно. Люди из богатых стран часто считают такую разницу в чувстве времени ленью.
Конечно, не все было предубеждением или недопониманием. Немцы начала XIX в. или японцы начала XX в. были, в целом, не так организованы, не настолько рациональны, дисциплинированны и пр., как жители успешных стран того времени, или, если уж на то пошло, как жители современных Германии или Японии. Но вопрос заключается в том, можем ли мы действительно назвать корни таких «негативных» форм поведения «культурными», в том смысле, что они укоренены в убеждениях, ценностях и взглядах, которые передавались сквозь поколения, и которые, следовательно, очень трудно или вообще невозможно изменить.
Коротко отвечу – нет. Давайте опять посмотрим на лень. Это правда, что в бедных странах есть намного больше народу, «прохлаждающегося без дела». Но потому ли это, что в культуре этих людей есть предпочтение праздности усердному труду? Обычно нет. В основном, это потому, что в бедных странах много народу безработного или недостаточно занятого (т.е. людей, у которых рабочие места есть, но недостаточно работы, чтобы она занимала все их время). А это результат экономических условий, а не культуры. Тот факт, что иммигранты из бедных стран с «культурой праздности», переехавшие в богатые страны, вкалывают намного усерднее местных, доказывает мою мысль.
Что до некогда раздутой «бесчестности» немцев в прошлом, то когда страна бедна, люди часто прибегают к неэтичным или даже незаконным средствам заработать на жизнь. Бедность также включает в себя и слабые правоохранительные органы, которые спускают людям их противоправное поведение, и делают нарушение закона более «культурно» допустимым.
А что же с «чрезмерными эмоциями» японцев и немцев? Рациональное мышление (чье отсутствие зачастую проявляется как чрезмерные эмоции) развивается в основном вследствие экономического развития. Современная экономика требует рациональной организации деятельности, которая затем меняет представление людей о мире. «Жизнь сегодняшним днем» или «беспечность» — эпитеты, которые сегодня многие связывают с Африкой и Латинской Америкой – также являются следствием экономических условий. В медленно меняющейся экономике нет особой нужды планировать на будущее, люди строят планы на будущее только когда ожидают новых возможностей (например, новой специальности) или неожиданных потрясений (например, внезапный наплыв импортных товаров). Кроме того, бедная экономика не дает многих инструментов, опираясь на которые, люди могли бы строить планы на будущее (к примеру, кредит, страхование, контракты).
Другими словами, многие из «отрицательных» форм поведения японцев и немцев в прошлом, по большей части, являлись результатом скорее экономических условий, присущих всем экономически слаборазвитым странам, нежели их специфических культур. Вот почему немцы и японцы прошлого «культурно» были намного ближе жителям нынешних развивающихся стран, нежели сегодняшним немцам и японцам.
Многие их этих, казалось бы, неизменных «обычаев национального наследия» могут трансформироваться, и [как показывает опыт] трансформировались довольно быстро [под влиянием] перемен в экономических условиях. Именно этот процесс зафиксировали некоторые наблюдатели в Германии конца XIX в. и в Японии начала XX в. Сидней Гулик, американский миссионер, которого я уже упоминал, писал, что
«японцы производят двойственное впечатление трудолюбивых и прилежных с одной стороны, а с другой стороны — ленивых и совершенно безучастных к ходу времени25».
Если вы глядели на рабочих новых фабрик и заводов, они казались очень трудолюбивыми. Но если вы глядели на незагруженных работой крестьян и плотников, они выглядели «ленивыми». По мере экономического развития у людей очень быстро развивается «промышленное» чувство времени. Моя страна, Корея, может предложить интересный пример в этом отношении.
Двадцать, может даже пятнадцать лет назад, у нас бытовало выражение «корейское время». Оно относилось к широко распространенной практике, когда люди могли опоздать на встречу на час или два и даже не чувствовать никакого смущения по этому поводу. Сейчас, когда ритм жизни ускорился и [стал] намного более организованным, такое поведение практически исчезло, а вместе с ним и выражение.
Другими словами, культура меняется по мере экономического развития26. Поэтому сегодняшняя японская и немецкая культура так отличается от культуры их предков. Культура – это результат, так же как и причина экономического развития. Было бы намного вернее сказать, что, страны становятся «трудолюбивыми» и «дисциплинированными» (а также приобретают другие «хорошие» культурные черты) по причине экономического развития, а не наоборот.
Многие культуралисты теоретически признают, что культура меняется. Но на практике они относятся к ней, как к чему-то довольно неизменному. Поэтому, несмотря на бесчисленные свидетельства современников об обратном, сегодняшние культуралисты описывают японцев накануне своего экономического развития в самом лестном свете. Дэвид Лэндис (David Landes), ведущий поборник культурной теории экономического развития утверждает:
«Японцы подошли к модернизации с присущей им глубиной и системностью. Они были готовы к ней благодаря традиции (памяти об) эффективном правительстве, благодаря высокому уровню грамотности, благодаря их тесным семейным связям, трудовой этике и самодисциплине, благодаря их ощущению национальной силы и врожденного превосходства27».
Несмотря на часто [встречающиеся] наблюдения современников, что японцы были ленивы, Фукуяма, в своей книге «Доверие», утверждает, что имел место
«японский аналог протестантской трудовой этики, сформировавшийся примерно в то же самое время28». [если нацисты производили своих японских союзников в «почётные арийцы», то неолибералы — в «почётные протестанты». Прим.публикатора]
Когда он классифицирует Германию, как общество, по сути своей, «высокого доверия», он вновь забывает тот факт, что до того как немцы разбогатели, многие иностранцы считали, что немцы постоянно всех обжуливали и не были способны к сотрудничеству между собой.
Хороший «культурный» аргумент должен признавать, что немцы с японцами были довольно безнадежным сборищем, и все равно объяснять как они развили свою экономику. Но большинство культуралистов, ослепленных своим убеждением, что только страны с «правильной» системой ценностей способны к развитию, переписывают немецкую и японскую историю так, чтобы «обосновать» их последующий экономический успех.
Тот факт, что культура меняется намного быстрее, чем считают культуралисты, должен придавать нам надежды. Отрицательные качества поведения, такие как лень или отсутствие творчества, действительно мешают экономическому развитию. Если бы эти качества были полностью, или хотя бы в основном, культурно детерминированными, то нам потребовалась бы «культурная революция» для того чтобы избавиться от них и начать экономическое развитие29. Если бы нам была нужна культурная революция, для того чтобы начать развивать экономику, экономическое развитие было бы почти невозможным, потому что культурные революции редко удаются. Провал китайской культурной революции, хотя и запущенной с отличными от экономического развития целями, должен служить нам полезным уроком.
К счастью нам не нужна культурная революция, прежде чем сможет начаться экономическое развитие [действительная культурная революция нужна всем странам и культурам для установления социального равенства, эмансипации угнетённых групп и снятия (либо снижения) классовых барьеров в доступе к образованию, медицине и пр. Всё это выгодно в плане экономического развития, как красиво показал этот же автор — запускает его или ускоряет уже запущенное. В СССР и других соцстранах, до Кубы и Никарагуа, это происходило благодаря усилиям государства, правящей партии и господствующего класса, в развитых капстранах — вопреки, под давлением коммунистов и других антисистемных движений, в страхе перед примером Октябрьской революции и пр. Прим.публикатора].
Многие качества поведения, которые считаются полезными для экономического развития последуют из него, нежели будут потребны как условие к его началу. Как я объяснил в предыдущих главах, страны могут запустить развитие при помощи средств, отличных от культурной революции. Когда экономическое развитие запустится, оно изменит поведение людей, и даже убеждения, на которых оно основано (т.е. культуру) так, чтобы они способствовали экономическому развитию. Создаѐтся взаимопорождающий круг экономического развития и культурных ценностей.
По существу, это как раз то, что и произошло с Германией и Японией. И это то, что будет происходить во всех будущих историях успеха. Глядя на недавние успехи Индии, я уверен, что мы скоро увидим книги, которые рассказывают как индийская культура, некогда считавшаяся причиной вялого роста в Индии (припомните ранее популярное выражение «индийская скорость роста»30), помогает расти Индии. Если в 2060 году сбудется моя мозамбикская фантазия из Пролога, тогда мы будем читать, как с самого начала мозамбикская культура уникальным образом подходила для экономического развития.
[Что автор упоминает, но не рассматривает — чем дальше, тем труднее ей сбыться. Мировой рынок обрекает страны периферии на зависимое развитие, губительное для производительных сил, всё сильнее привязывает к контрпродуктивной специализации. В частности Мозамбик — к роли нелегальной свалки, в т.ч. электронного мусора, плантации и рудника (с достаточно близкими экологическими последствиями со свалкой). См. «Летящие гуси» и «Капитализм как он есть».
Ослабить эту цепь и начать развиваться раньше позволялось за специальные заслуги правительств в борьбе с «красной опасностью». Таков первоисточник успеха Южной Кореи, Гонконга, Таиланда, Индонезии — или Польши с Эстонией. Сегодня это уже невозможно. Прим.публикатора]
Меняющаяся культура
Пока что я утверждал, что культура не постоянна и меняется в результате [процесса] экономического развития. Всѐ же это не означает, что культуру можно изменить только посредством изменения основополагающего экономического состояния. Культуру можно намеренно изменить посредством убеждения. На это особенно напирают те культуралисты, которые всѐ-таки не фаталисты (для фаталистов культуру почти невозможно изменить, так что это судьба).
Проблема только в том, что такие культуралисты склонны считать, что для перемен в культуре требуется только «деятельность, продвигающая прогрессивные ценности и подходы», по словам Лоренса Харрисона (Lawrence Harrison), автора работы «Слаборазвитость – это состояние ума» («Underdevelopment is a State of Mind31»).
Но тому, чего можно добиться одними только идеологическими призывами есть предел. В обществе, где недостаточно работы, проповеди усердного труда не будут очень эффективны, для того чтобы изменить трудовые привычки людей. В обществе, где мало промышленности, рассказывать людям, что принижать инженерные профессии – дурно, не убедит много молоджи выбрать себе эту профессию. В обществах, где с рабочими обращаются ужасно, призывы к сотрудничеству не будут услышаны или будут встречены с откровенным цинизмом. Изменение отношения нужно подкреплять реальными переменами – в экономической деятельности, [общественных] институтах и политике. Возьмем хваленую японскую культуру преданности компании. Многие наблюдатели считают, что она является воплощением глубинной культурной особенности, укорененной в японской ветви конфуцианства, делающей упор на преданности.
Теперь, если это так, то такое отношение должно быть более ярко выраженным, по мере того, как мы будем отступать назад в прошлое. И тем не менее, [всего] век назад, Беатрис Уэбб заметила, что японцы обладают
«совершенно невыносимой личной независимостью32».
И вправду, японские рабочие были довольно воинственной оравой вплоть до недавнего времени. В период с 1955 по 1964 гг., Япония теряла в забастовках больше рабочих дней на одного работающего, чем Британия или Франция, а эти страны в то время не могли похвастаться бесконфликтными индустриальными отношеняим33. Сотрудничество и преданность [компании] появились только потому, что японским работникам были даны такие институты как пожизненный наем и система социальных льгот в фирме.
Идеологические кампании (и правительственные расправы с воинственными коммунистическими профсоюзами) сыграли свою роль, но их одних было бы не достаточно. Аналогично, несмотря на свою нынешнюю репутацию страны с мирными индустриальными отношениями, [прежде] Швеция имела ужасные проблемы в области труда [и занятости]. В 1920-е годы она теряла в забастовках больше человеко-часов на одного работающего, чем любая другая страна в мире.
Но после «корпоратистского» компромисса 1930-х годов (соглашение Saltjöbaden 1938 года) это все изменилось. В обмен на то, что рабочие обуздали как свои требования по оплате труда, так и забастовочное движение, шведские капиталисты обеспечили щедрые социальные льготы в сочетании с хорошими пенсионными программами. Одни только идеологические призывы не были бы убедительны.
Когда в 1960-х годах Корея начала индустриализацию, правительство пыталось убедить людей, оставить свое традиционное конфуцианское пренебрежение индустриальными специальностями. Стране нуждалась в инженерах и ученых. Но когда достойных инженерных рабочих мест мало, талантливая молодежь не рвется стать инженерами. Тогда правительство увеличило финансирование и количество учащихся в университетах на инженерных и естественнонаучных факультетах, а с гуманитарными факультетами проделало обратную операцию (в относительном выражении). В 1960-е годы на каждого выпускника-гуманитария приходилось только 0,6 инженера или естественника, но к началу 1980-х годов соотношение изменилось до 1:134.
Конечно, такая политика, в конечном итоге, сработала потому, что экономика быстро индустриализовывалась, и появлялось все больше и больше хорошо оплачиваемых инженерных и естественнонаучных рабочих мест. Именно благодаря сочетанию идеологического убеждения [разъяснительной работы], [целенаправленной] образовательной политики и индустриализации [плюс электрификация всей страны], а не просто «продвижению прогрессивных ценностей и подходов», Корея теперь может похвастаться одной из лучшей в мире армией квалифицированных инженеров.
Вышеприведенные примеры демонстрируют, что [работа по] идеологическому убеждению важна, но сама по себе недостаточна для изменения культуры. Она должна сопровождаться переменами в политике и общественных институтах, которые могут поддерживать желательные формы поведения в течении длительного времени, чтобы те превратились в качества, присущие культуре.
Обновляя культуру
Культура влияет на экономические успехи страны. В определенный момент во времени, определенная страна может дать людей с определенными свойствами поведения, которые более способствуют достижению определенных социальных целей, в т.ч. экономического развития, чем другие культуры. На таком абстрактном уровне кажется, что посылка не вызывает возражений.
Но когда мы пытаемся приложить этот общий принцип к реальным ситуациям, он оказывается обманчивым. Очень трудно определить, что такое культура [какой-либо] страны. Все еще больше усложняется тем фактом, что различные культурные традиции могут сосуществовать в одной стране, даже в таких, якобы «однородных», как Корея. Все культуры имеют многочисленные характеристики, некоторые хороши для экономического развития, некоторые – нет. С учетом этого всего, невозможно и не полезно «объяснять» экономические успехи или неуспехи страны в терминах ее культуры, как некоторые Недобрые Самаритяне пытались.
Больше того, хотя наличие людей с определенными качествами может быть полезным для экономического развития, стране не нужно [устраивать] «культурную революцию», только чтобы она смогла начать развиваться. Хотя культура и экономическое развитие влияют друг на друга, причинность намного сильнее от последнего к первому; экономическое развитие во многом создает культуру, которая ему нужна. Перемены в структуре экономики меняют то, как люди живут и взаимодействуют друг с другом, что в свою очередь меняет то, как они понимают мир и ведут себя. Как я показал на примере Японии, Германии и Кореи, многие свойства поведения, которые должны «объяснять» экономическое развитие (к примеру, трудолюбие, пунктуальность, бережливость) на самом деле являются его следствиями, а не причинами.
Говоря, что культура меняется в основном как результат экономического развития, я совсем не утверждаю, что культуру нельзя менять мерами убеждения. Вообще-то в них верят некоторые оптимистично настроенные культуралисты. «Слаборазвитость – это состояние ума» — объявляют они. Следовательно, для них очевидным решением слабой развитости [стран] является идеологические увещевания. Я не отрицаю, что подобные экзерсисы могут быть полезны, или даже важны, в каких-то случаях, для изменения культуры. Но «культурная революция» не укоренится, если не будут соответствующих перемен в основополагающих экономических структурах и институтах.
Итак, для продвижения свойств поведения, полезных для экономического развития, требуется сочетание разъяснительной работы, мер [внутренней и внешней] политики, способствующих такому развитию и изменения [общественных] институтов, которые будут их поощрять и поддерживать. Получить верную комбинацию – непростая задача, но найдя ее, культуру можно изменить намного быстрее, чем это обычно считается. Очень часто то, что кажется вечным [и неизменным] национальным характером, может измениться за пару десятилетий, при наличии достаточной поддержки со стороны изменившихся основополагающих экономических структур и общественных институтов.
Довольно быстрое исчезновение японской «национальной наследственной» лени с 1920-х гг., быстрое формирование партнерских индустриальных отношений в Швеции с 1930-х гг. и окончание «корейского времени» в 1990-е гг. – самые яркие примеры тому.
Тот факт, что культуру можно целенаправленно менять – мерами экономической политики, созданием общественных институтов и идеологическими кампаниями – придает нам надежды. Ни одна страна не обречена на недоразвитость из-за своей культуры. Но в то же самое время, мы не должны забывать, что культуру нельзя переделывать произвольно, по своему желанию – провал в создании «нового человека» при коммунизме является хорошим подтверждением. «Реформатор культуры» все равно должен работать с имеющимися культурными подходами и символами.
Нам необходимо понять роль культуры в экономическом развитии во всей ее подлинной сложности и значимости. Культура сложна и плохо поддается определению. Она влияет на экономическое развитие, но экономическое развитие влияет на нее сильнее. Культура не является неизменной. Ее можно изменить через взаимно усиливающее взаимодействие с экономическим развитием, идеологической работой и соответствующими общественными институтами и политическими мерами, которые побуждают определенные формы поведения, которые со временем становятся качествами, присущими культуре.
Только тогда мы сможем очистить наши представления и от необоснованного пессимизма тех, кто считает, что культура – это судьба, и от наивного оптимизма тех, кто верят, что они могут убедить людей мыслить по-другому, и тем самым принесут экономическое развитие.
Примечания
1Цитата из Japan Times , 18 August 1915.
2S. Gulick (1903), Evolution of the Japanese (Fleming H. Revell, New York), p. 117.
3Gulick (1903), p. 82.
4D. Etounga-Manguelle (2000), „Does Africa Need a Cultural Adjustment Program?‟ in L. Harrison & S. Huntington (eds.), Culture Matters – How Values Shape Human Progress (Basic Books, New York), p. 69.
5B. Webb (1984), The Diary of Beatrice Webb: The Power to Alter Things , vol. 3, edited by N. MacKenzie and J. MacKenzie (Virago/LSE, London), p. 160.
6 Webb (1984), p. 166.
7S. Webb & B. Webb (1978), The Letters of Sidney and Beatrice Webb , edited by N.MacKenzie and J.MacKenzie (Cambridge University Press, Cambridge), p. 375.
8Webb & Webb (1978), p. 375. Когда Уэбб находилась в Корее, последняя была аннексирована Японией.
9T. Hodgskin (1820), Travels in the North of Germany: describing the present state of the social and political institutions, the agriculture, manufactures, commerce, education, arts and manners in that country, particularly in the kingdom of Hannover , vol, I (Archbald, Edinburgh), p.50, n. 2.
10К примеру у Hodgskin (1820) есть раздел, озаглавленный «причины немецкой лености» на стр.59.
11M. Shelly (1843), Rambles in Germany and Italy , vol. 1 (Edward Monkton, London), p. 276.
12D. Landes (1998), The Wealth and Poverty of Nations (Abacus, London), p. 281.
13John Russell (1828), A Tour in Germany , vol. 1 (Archibald Constable &Co, Edinburgh), p. 394.
14John Buckingham (1841), Belgium, the Rhine, Switzerland and Holland: The Autumnal Tour, vol. I (Peter Jackson, London), p. 290.
15S. Whitman (1898), Teuton Studies (Chapman, London), p. 39, no. 20, quoting John McPherson.
16Etounga-Manguelle (2000), p. 75.
17Sir Arthur Brooke Faulkner (1833), Visit to Germany and the Low Countries , vol. 2 (Richard Bentley, London), p. 57.
18Faulkner (1833), p. 155.
19S. Huntington (2000), „Foreword: Cultures Count‟ in L. Harrison & S. Huntington (eds.), Culture Matters – How Values Shape Human Progress (Basic Books, New York), p. xi. На самом деле подушевой ВВП Кореи в начале 1960-х гг. составлял менее половины ганийского, о чѐм я указал в Прологе к настоящей книге.
20Соответствующие работы по теме: F. Fukuyama (1995), Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (Hamish Hamilton, London); Landes (1998); L. Harrison & S. Huntington (eds.) (2000), Culture Matters – How Values Shape Human Progress (Basic Books, New York); статьи в сб. „Symposium on “Cultural Economics”‟, Journal of Economic Perspectives , Spring 2006, vol. 20, no. 2.
21 Landes (1998), p. 516.
22M. Morishima (1982), Why Has Japan Succeeded? – Western Technology and the Japanese Ethos (Cambridge University Press, Cambridge). Этот аргумент популяризовал Фукуяма (1995).
23Опираясь на анализ данных «Всемирного обзора ценностей» («World Values Survey») Рейчел Маклири (Rachel McCleary) и Роберт Барро (Robert Barro) утверждают, что мусульмане (а также «иные христиане», то есть христиане не принадлежащие к католической, православной или главным протестантским церквам) имеют исключительно сильную веру в ад и загробную жизнь. См. их статью „Religion and Economy‟, Journal of Economic Perspectives , Spring 2006, vol. 20, no. 2.
24Известно, что из [девяноста] девяти имѐн Аллаха, два означают «справедливый». Я благодарю Ильяса Халила за разъяснение мне этого момента.
25 Gulick (1903), p. 117.
26Конечно, во время экономической стагнации, культура может измениться к худшему (по крайней мере с точки зрения экономического развития). Мусульманский мир был рациональным и терпимым, но после веков экономической стагнации мусульманские страны стали ультрарелигиозными и нетерпимыми. Эти «отрицательные» составляющие усилились [именно] из-за экономической стагнации и отсутствия перспектив.
А то, что такие формы поведения не являются неизбежным следствием мусульманской культуры, доказывается превалирующим рациональным мышлением и терпимостью во многих процветающих мусульманских империях прошлого. Современные образцы это также подтверждают, например Малайзия, чьѐ экономическое процветание сделало еѐ ислам толерантным и рациональным, о чѐм все эти сотрудницы [но не начальницы; этот момент автор опускает] Центрального банка, про которых я рассказывал, могут вам поведать.
27Landes (2000), „Culture Makes Almost All the Difference‟ in L. Harrison & S. Huntington (2000), p. 8.
28Fukuyama (1995), p. 183.
29Эту позицию приняли многие авторы сборника Harrison & Huntington (2000), особенно его последних глав — Fairbanks, Lindsay и Harrison.
30Это выражение связано с тем, что темпы экономического роста Индии в период с 1950 по 1980 гг. застряли на относительной низкой планке в 3,5% (около 1% в терминах подушевого дохода). Его, предположительно, ввѐл в обиход индийский экономист Радж Кришна (Raj Krishna), а растрезвонил на весь свет Роберт Макнамара (Robert McNamara), бывший президент Всемирного банка.
31L. Harrison, „Promoting Progressive Cultural Change‟ in L. Harrison &S. Huntington (eds.) (2000), p. 303.
32Авторитеты по японской тематике, такие как американский политолог Чалмерз Джонсон (Chalmers Johnson) и британский социолог Рональд Дор (Ronald Dore), также предоставили свидетельства, демонстрирующие, что японцы были намного большими индивидуалистами и «независимо мыслящими» людьми, чем они сегодня. См. C. Johnson (1982), The MITI and the Japanese Miracle (Stanford University Press, Stanford) and R. Dore (1987), Taking Japan Seriously (Athlone Press, London).
33K. Koike (1987), „Human Resource Development‟ in K. Yamamura & Y. Tasuba (eds.), The Political Economy of Japan , vol. 1 (Stanford University Press, Stanford).
34J. You & H-J. Chang (1993), „The Myth of Free Labour Market in Korea‟, Contributions to Political Economy , vol. 12.

Жизнь на свалке в Мапуту, Мозамбик. На роль такой же свалки (и плантации-рудника) мировой рынок обрёк Гану, о чём не упоминается в третирующей её книге Хантингтона
Чхан резюмирует вышесказанное в «23 тайнах, которые вам не расскажут про капитализм«:
«Говорят и о «плохом» менталитете Африки, но менталитет большинства нынешних богатых стран в свое время тоже называли плохим — примеры я привожу в своей книге «Недобрые самаритяне» в главе «Ленивые японцы и вороватые немцы». Вплоть до начала XX века австралийцы и американцы, побывав в Японии, говорили, что японцы ленивы. До середины XIX века британцы, побывавшие в Германии, говорили, что немцы слишком глупы, слишком эгоистичны и слишком эмоциональны, чтобы поднять экономику своих стран (тогда Германия еще не была объединена) — полная противоположность существующему сегодня стереотипу немцев и ровно то же, что сегодня говорят об африканцах. Японская и немецкая культуры в процессе экономического развития трансформировались, поскольку требования высокоорганизованного индустриального общества заставили людей быть более дисциплинированными, думающими и открытыми для сотрудничества. В этом смысле менталитет скорее является результатом, а не причиной экономического развития. И ошибочным будет возлагать вину за низкое экономическое развитие Африки (как и любого другого региона или страны) на менталитет ее народов.
Получается, что факторы, кажущиеся незыблемыми, изначально заложенными препятствиями для экономического развития Африки (да и любого другого региона), на поверку оказываются преодолимыми и уже кое-где преодоленными, при условии применения более совершенной техники, осуществления более продуманных административных решений и выстраивания более адекватных политических институтов. Косвенным доказательством этого утверждения является тот факт, что сегодня большинство богатых стран сами в прошлом страдали (и в какой-то степени продолжают страдать) от тех же проблем. Более того, невзирая на все эти препятствия — которые, бывало, принимали и более суровые формы, — африканские страны и сами не испытывали в 1960–1970-х годах проблем роста. Главная причина недавно начавшегося упадка лежит в сфере политики — а именно, в политике свободы торговли, свободного рынка, которая была навязана континенту через «программы структурной стабилизации». Природа и история не обрекают страну на неудачи. Если проблемы вызваны политикой, будущее изменить даже еще легче. То, что мы еще этого не наблюдаем, — вот настоящая трагедия Африки, а не якобы хронический ее упадок».