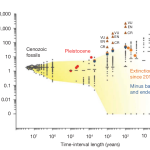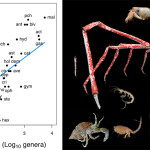Почитал книгу известного крестьяноведа В.П.Данилова «Советская доколхозная деревня. Население. Землепользование. Хозяйство.» (М.: Наука, 1977). Интересно более пристально посмотреть на главку оттуда про сельхозпроизводство в колхозах 20-х годов до массовой коллективизации.
Видна бОльшая эффективность колхозов по сравнению с единоличниками, особенно с учётом того, что объединялись наиболее бедные крестьяне с минимумом скота и инвентаря. Выше производительность труда, ниже себестоимость производства зерна в колхозах, чем у единоличников – что пшеницы на Кавказе, что ржи в Нечерноземье. Колхозы лишь несколько опережали единоличников по урожайности, но сильно – по товарности производства. Плюс единоличники, «сложившиеся» в колхозы, быстро оказывались лучше обеспеченными с/х орудиями и инвентарём, причём разрыв в оснащённости нарастал – колхозники «уходили» от живого труда к механизированному, единоличник в среднем «топтался на месте».
Понятно, что это связано с преимуществами организации и кооперации как таковыми, а также с большей «поглотительной способностью» (термин Н.И.Вавилова) первопроходцев колхозного движения в отношении новинок сельхознауки и агротехники. Они легче, чем единоличники, переходили на многопольные севообороты, с большей вероятностью проводили посев сортовым зерном и пр.
Что, с одной стороны, развенчивает кулацкий миф о бедноте как «пьяницах, не умеющих работать», с другой – показывает естественные пределы колхозного движения в тогдашней деревне. Единственно, в чём отставали колхозы – в животноводстве, и именно потому что объединяли в первую очередь бедноту.
Здесь важно подчеркнуть две вещи. Данилов – из тех шестидесятников, кто даже в советское время был «бухаринцем» — противником ликвидации кулачества как класса, сторонником не колхозов, но НЭПовской кооперации, добровольной и «поскольку-выгодной». И при этом – сугубым противником рыночных реформ a la Столыпин, выгодных кулаку и опасных для трудового крестьянства, и остался им не только в перестройку, когда Столыпина начали славить, но и при нынешней Реставрации, когда превознесение дошло до полного неприличия.
Второе – он очень подробен в эмпирике. Книга нашпигована разнообразными фактическими данными, и общие рассуждения следуют в основном после них, а не до.
И этот обширнейший материал показывает, увы, естественные пределы роста колхозов (и более простых форм кооперации) в 20-е годы – 5-8%, не более [a1]. Причём предел вытекал именно из достоинств и преимуществ колхозов, о которых см. выше, и был задан социальным господством кулака в НЭПовской деревне. Соввласти там практически не было; точней, Советами зачастую рулили кулаки или зависимые от них лица, не было соцстроительства, хозяйство вели по старинке, де-факто существовала купля-продажа земли, и те архаичные формы найма рабсилы, социальной зависимости бедняков от богатый и принуждения к труду, которые делали кулака хозяином деревни [a2].
Естественно, что в такой ситуации строительство «новой жизни», попытки которого проводились местными активистами, наталкивались на кулацкий террор. Понимая сугубую опасность колхозного примера, кулаки все 20-е годы «на молекулярном уровне» били «проводников» соцстроительства – селькоров, комсомольцев, демобилизованных красноармейцев и пр. Фактически все 20-е в деревне шла классовая война, которую до вмешательства города кулак в целом выигрывал [a3]. В том числе потому, что трудовая часть деревни не видела перспектив «новой жизни» при сохранении единоличного ведения хозяйства.
Прогресс колхозного движения эту перспективу давал, одновременно угрожая кулакам (которых Советская власть при проведении налоговой политики в период НЭПа и «уничтожении как класса» определяла именно как сельскую буржуазию) потерей дешёвой рабсилы и зависимых от них избирателей. Так что классовый конфликт обострялся.
Если зайти с другой стороны, не социальной, а естественнонаучной: не зря так называемый «голодомор» не фиксируется обычным способом, по провалам демографической пирамиды, в отличие от действительно экстремального голода 46-го-47-го года. Не потому, что в то время не было голода – он был, но вполне равноценный голодовкам 20-х годов. Тем более дореволюционных, повторяющимся с периодичностью 3-4 года с приходом сильной засухи в аридные (самые зернопродуктивные) области или при вымокании урожая от сильных дождей в губерниях с сильно гумидным климатом.
Не сломив политического господства кулака в деревне, нельзя было перейти не только к социалистическому строительству, но и к любому крупнотоварному с/х производству, способному усвоить последние достижения науки и техники, сделать сельское хозяйство интенсивным и пр.
Поэтому кулаку было невыгодно не только первое, но и второе (он предпочитал гнуть односельчан традиционным образом, а находящиеся под его властью трудящиеся слои деревни не смели присоединиться к колхозу). В том числе потому, что у кого реальная власть, тот даёт жизненные идеал большинству. Пока в доколхозной деревне идеалом значительной части самых что ни на есть тружеников остаётся единоличное хозяйство по образу богатого соседа, коллективы не будут распространяться при любом выигрыше в эффективности.
И действительно, этот потенциал удалось реализовать лишь с середины 30-х годов. В 1936 году первый раз пришла засуха, которая не сопровождалась голодом, и с тех пор так было все годы, кроме послевоенного 46-го. И результат коллективизации – изменения в питании (и досуге) что саратовских, что архангельских крестьян между 1926 и 1940 гг.
Но безусловная вина соввласти состоит в том, что она, следуя бухаринско-сталинской политике «обогащайтесь!», тянула с коллективизацией. И дотянула – до момента, когда сельское население страны угодило в самую настоящую мальтузианскую ловушку, обычную для аграрных стран на пороге промышленной революции.
В самом деле, в результате появления в СССР самой передовой в мире системы социальных гарантий (которые становились всё весомей по мере того, как страна восстанавливалась после разрухи, а невежество отступало) смертность упала до уровня ниже 1913 года, а рождаемость выросла. Это произошло уже в середине 20-х годов, дальше соответствующие «ножницы» возрастали, и особенно на селе с его традиционной структурой воспроизводства (да и в городах демографический переход стал заметным явлением лишь во время индустриализации). И без изменений структуры с/х производства, где было занято большинство, грозило мальтузианской ловушкой.
«В первые годы мировой и последовавшей за ней гражданской войны Россия понесла огромные людские потери. Вместе с войной на истерзанную страну обрушились бедствия эпидемий (печально знаменитая «испанка» в 1918 г. и др.), неурожаев и голода 1920 и 1921 гг. Общий рост населения в стране возобновился со второй половины 1922 г. и продолжался без перерывов до конца изучаемого периода. На первых порах это был исключительно быстрый, компенсаторный рост населения, обычный после больших потерь. Его основой служило резкое увеличение рождаемости при снижении смертности. Уровень рождаемости достиг наибольшей высоты в 1925 г. (44,7 рождения на тысячу человек населения Европейской части СССР без Северного Кавказа), после чего обнаружилась тенденция некоторого снижения, связанная с исчерпанием компенсаторной волны (43,6 в 1926г, 43,4 в 1927 г., 42,2 в 1928 г. и 39,8 в 1929 г.). Уровень смертности уже в 1923 г. оказался значительно ниже предвоенного и в дальнейшем продолжал снижаться, свидетельствуя о значительном улучшении жизненных условий для самых широких масс (в 1911-1913 гг. – 28,6 смерти на тысячу человек, в 1923 г. – 25,5, в 1924 г. – 22, в 1925 – 23,2, в 1926 г. – 20, в 1927 – 21, в 1928 – 18,2, в 1929 – 20,3)[1]. Особенно показательно в этом отношении снижение детской смертности: к концу 20-х годов примерно на третью часть. По подсчётам демографов, это означало, что только за пятилетие 1924-1928 гг. было спасено около 2 млн. младенцев, которые при сохранении дореволюционных условий были бы обречены на смерть[2].
Естественный рост населения в 20-х годах оказался более высоким, чем в дореволюционной России (для Европейской части СССР без Северного Кавказа в 1911-1913 гг. – 16,9 на тысячу человек, в 1924 г. – 21,1, в 1925 г. – 21,5, в 1926 г.-23,6[3]). Его результаты и зафиксировала перепись 1926 г., данные которой позволили получить достаточно точное представление и об общей динамике населения страны за 1924-1929 гг. (см. Табл. 1)
Таблица 1. Динамика населения СССР в 1924-1930 гг. в млн.
| На 1 января | |||||||
| 1924 г. | 1925 г. | 1926 г. | 1927 г. | 1928 г. | 1929 г. | 1930 г. | |
| Всё население абс. | 137,4 | 140,5 | 143,6 | 147,1 | 150,4 | 153,4 | 156,4 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Прирост за год абс. | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | |
| % | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | |
| Городское население абс. | 22,4 | 23,7 | 25,0 | 26,3 | 27,5 | 28,7 | 30,2 |
| % | 16,3 | 16,8 | 17,4 | 17,9 | 18,3 | 18,6 | 19,3 |
| Прирост за год абс. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | |
| % | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 4,5 | 4,4 | 5,2 | |
| Сельское население абс. | 115,0 | 116,8 | 118,6 | 120,8 | 122,9 | 124,7 | 126,2 |
| % | 83,7 | 83,2 | 82,6 | 82,1 | 81,7 | 81,4 | 80,7 |
| Прирост за год абс. | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | |
| % | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | |
Данилов В.П. Динамика населения СССР за 1917-1929 гг. – «Археографический ежегодник за 1968 год», с.251.
Данные таблицы показывают, во-первых, что определённым рубежом в развитии демографических (как и народнохозяйственных) процессов является 1925 г. Уже к началу этого года общая численность населения превысила довоенный уровень. На протяжении 1925 г. восстановилась и довоенная численность городского населения. Заканчивался восстановительный период. Когда в декабре 1925 г. Коммунистическая партия на XIV съезде провозгласила курс на социалистическую индустриализацию, осуществление которого породило глубочайшие не только социальные, но и демографические изменения, экономическое развитие страны, в том числе соотношение промышленности и сельского хозяйства, городской и сельской жизни, было примерно на уровне довоенной России.
Во-вторых, как явствует из таблицы, при среднем ежегодном приросте населения в 3,2 млн. человек, городское население за 1925-1929 гг. выросло на 6,5 млн. человек и его удельный вес поднялся с 16,8% до 19,3%, а численность сельского населения возрастала почти на 2 млн. человек в год, увеличившись на 9,4 млн. человек. На самом деле роль села в увеличении народонаселения страны была намного выше. В условиях индустриализации страны должен был усилиться закономерный процесс привлечения сельского населения в города и соответственно – механический прирост населения городов. По примерным подсчётам общесоюзные показатели такого прироста выглядят следующим образом: в 1924 г – около 670 тыс. человек, в 1925 г. – около 800 тыс., в 1926 г. – около 900 тыс., в 1927 г. – около 1 млн. человек[4]. В 1928 г. механический прирост городского населения составил 1062 тыс. человек, а в 1929 г. – 1392 тыс[5]. Таким образом, за 1925-1929 гг. в города переселилось примерно 5,2 млн. сельских жителей, причём интенсивность процесса удвоилась. Иначе говоря, уже в самом начале реконструктивного периода свыше ¾ прироста городского населения приходилось на долю переселившихся крестьян» (Данилов, ibid.).
В условиях, когда кулак блокирует прогрессивные хозяйственные преобразования, а партия тянет с коллективизацией, следуя курсу на «обогащайтесь», это вело к мальтузианской ловушке, с исчерпанием земельного фонда по мере дробления доминирующих трудовых крестьянских хозяйств. А затем неизбежно и к голоду, когда всё больше людей рассчитывает прокормиться с убывающего пахотного клина с неувеличивающейся урожайностью. И действительно, данные 1920-х годов фиксируют даже в чернозёмных районах земельный кризис и голод, по образцу бывших в России в 1891 г. «Площадь пашни за 1920-е годы росла в 2 раза опережающими темпами по сравнению с площадью с/х земель, так что запахивалось все подряд. Та самая ситуация о которой чуть не матом ругался Докучаев – ликвидировались все ложки, остатки лесов требуемых для сбора/сохранения влаги».
То есть не будь коллективизации, голод был бы страшнее и длительнее. Ибо человек сам по себе, без содействия «городской науки» или традиции, не может прогнозировать долговременно и рассчитать рацион, чтобы дотянуть до следующего урожая. Почему поддаётся соблазну «сразу съесть» или «продать», слабеет и умирает. Как тот несчастный колхозник Г.Г.Кох.
А ресурсов для помощи голодающим в этом случае было бы сильно меньше – или потребовалось бы много большее насилие, ибо все предыдущие голодовки в нашей стране показывали, что кулак любит и умеет наживаться на голоде и спокойно смотрит даже на пухнущих односельчан или бедных родственников.
И понятно: затягивающий с насущными преобразованиями платит больше. Тем более что хотя теория Мальтуса ложна, мальтузианские ловушки таки бывают, хотя действуют немного иначе. Они связаны не столько с избыточным размножением самим по себе, сколько с социальной ригидностью. Само по себе расширенное воспроизводство населения даже в демографический взрыв, отнюдь не гарантирует попадания в «ловушку», а вот недостаточный темп преобразований хозяйства в сторону «расширения» экологической ниши назавтра для тех, кто родился сегодня [или своевременное создание таких ниш для дополнительно родившегося населения, чтобы ниши «существующие» не мельчали и не дробились] гарантирует обязательно.
Очень жаль, что в СССР восприняли резкое неприятие Марксом теории Мальтуса как «не стоит с этим знакомиться вовсе». Надо было найти рациональное зерно и определить границы применимости его наблюдений. [6].
Примечание
[a1] Это, безусловно, не вполне так. В противном случае не ясно каким образом вообще соввласть удержалась в деревне? Списать это исключительно на то, что это было «вопреки, а не благодаря» тому, что проводилось в деревне в 20-е годы — нельзя. Дело было скорее в другом: после Гражданской войны деревня сильно «усереднилось», процессы накопления денежный средств в руках кулаков и превращения их в капитал, равно как и оборот земли и инвентаря были прерваны, а во многом и обращены вспять. Деревня на какое-то время получила ту самую «утопию» : с переделом и полным господством мелкого собственника в деревне, который, зачастую достигал 70-75-80 процентов, от общего массива сель-хоз производителей. Соответственно, у бедноты были и земли похуже и инвентаря недостаточно. Но выводить из этого 5-8% под колхозы, как максимум, при том, что уже в 1930-1931-м годах был достигнут уровень в 4% — мягко говоря неожиданно.
[a2] Это выходит именно из-за того, что в деревне на том момент было господство мелкотоварного и натурального типа хозяйства (последнего — мало, но кое-где и на его уровень всё уходило), засилием мелкого собственника, который и определял социальное лицо деревни.
[a3] Выигрыша не было, кулаки пострадали после ГВ численно и в процентном отношении сильно ужались. Как уже говорилось : в первую очередь выигрывали середняки, которые, хотя и готовы были воспринимать «кулацкую» программу, далеко не всегда готовы были видеть кулаков во главе. При этом, в условиях постоянных проблем с меживанием, город постоянно вмешивался в процесс перераспределения земли в деревне и не сказать, будто бы никто не видел тех проблем, что там были. Другое дело, что без индустриализации и коллективизации, проводимых как единая политика, выхода из сохдавшегося положения не было. Советская деревня столкнулась с самым натуральным аграрным перенеселением.
[1] Данные за 1924-1926 гг. см. в кн.:ЦСУ СССР. Естественное движение населения Союза ССР в 1926 г. М., 1929, ст.8; данные за 1927-1929 гг. см. в кн.: Смулевич Б.Я. Буржуазные теории народонаселения в свете марксистско-ленинской критики. М, 1936, с.146, 150.
[2] Урланис Б.Ц. Рождаемость и продолжительность жизни в СССР, с.93.
[3] Естественное движение населения Союза ССР в 1926 г., с.8.
[4] «Археографический ежегодник за 1968 год», с.253.
[5] ЦУНХУ Госплана СССР. Социалистическое строительство СССР, М., 1936, с.545.
[6] Ведь выдумать абсолютную ложь невозможно, и даже известный тезис Лысенко о единстве организма и среды или возможности наследования без материального носителя наследственности имеет-таки своё натурное соответствие.
«Главной причиной этого мне кажется привлекательность тезиса о единства организма и среды для экологически ориентированного мышления — а экология тогда была у нас очень сильной и влиятельной частью биологии. Лысенкизм объявил представления о специфическом субстрате наследственности метафизическим (основные свойства этого субстрата были тогда предсказаны, и имелись серьёзные основания считать, что он локализован в хромосомах, но сам он еще не был открыт). Вместо этого наследственность считалась свойством, присущим живому существу — точнее, образующему его живому веществу — в целом. Организм строится из материала, поступающего из внешней среды, и потому образует с ней неразрывное единство; с пищей, водой, воздухом он прямо усваивает (ассимилирует) условия внешней среды. Если он к этим условиям приспособлен — всё в порядке, если же не вполне, то живое вещество (и существо) меняется; эти изменения, впрямую вызываемые ассимилированными условиями среды, имеют целесообразный, приспособительный характер. Если эти изменения захватывают воспроизводящие клетки, то вещество потомков такого организма оказывается с самого начала изменённым, то есть приобретённое изменение наследуется ими. В результате в потомстве особи одного вида могут появиться особи другого, приспособленного к новым условиям.
Такие выверты, как порождение сосны елью и кукушки — пеночкой, остались, естественно, совершенно неприемлемыми для всякого минимально грамотного биолога; не говорю уже об этической невозможности для порядочного человека поддержать лысенковские методы «дискуссии». Но «центральная догма» — редукция к взаимосвязям организма и среды — многим представлялась более привлекательной, чем противопоставленная ей редукция к генотипу (так же, как режиссёрские эксперименты В. Э. Мейерхольда отвергались и независимо от официально инспирированной травли «мейерхоль-довщины»). А дальше, сказав «А», почему бы не счесть приемлемым «ассимиляцию условий среды», «концентрирование в наследственности внешней среды, ассимилированной в предшествующих поколениях» и уж тем более — наследование приобретённых признаков, существование которого допускали многие серьёзные исследователи?
Лысенкизм остался в прошлом. Неудовлетворённость генетическим редукционизмом, однако, не исчезла и продолжает порождать дополнительные к нему модели. Среди них есть и новые редукции к системному единству организма и среды — например, концепция энвиронов американского биолога Б. Пэттена4. Разумеется, твёрдо установленные биологией факты существования наследственного кода при этом не отрицаются, и, кроме исходного тезиса, эти концепции имеют мало общего с лысенковскими. Но если перейти от организма к другим живым системам — к биоценозам — то можно найти больше аналогий с лысенкизмом. Органические сообщества действительно прямо включают и видоизменяют («ассимилируют») элементы неживой среды — почву, воздух, водоёмы, и эти элементы прослеживаются («наследуются») в живом покрове даже тогда, когда уже перестают существовать как таковые (например, заросшее сплавиной озеро долго ещё выделяется среди окружающего ландшафта совершенно иной растительностью). Этот вариант единства живого и неживого признавал, например, такой непримиримый и последовательный противник лысенкизма, как В. Н. Сукачев, подчеркнувший его в своем термине «биогеоценоз».».
В.В.Жерихин. Искажение мира.
Другое дело, что автор идеи даже не пытался его отыскать, увлечённый борьбой за монополию в науке.