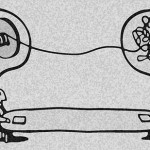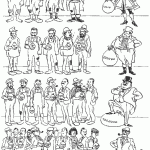Шнур с вилкой — привод от социальных влияний (конфликтующих с теми, что заружены в голову). См.текст
В продолжение темы «я – последняя буква в алфавите»
Когнитивный диссонанс часто рассматривают как «эгоистическую» эмоцию, поскольку он разными способами подделывает реальность под верования, убеждения и мнения индивида, если вдруг первая противоречит вторым. Как я уже писал, это достигается разными способами:
1) Создание фальшивых событий (фактоидов) и ложных теорий (объяснения ad hoc или post hoc, вроде описываемых по ссылке), вера в которые снимает противоречие, позволяя и принять наблюдаемую реальность, и сохранить мнения.
2) изменение внутренней ценности совершённых действий (диссонанс генерирует ложные эмоции). Так, объективно скучной и неинтересной работе американцы «додумывают» интересность и важность, если она бесплатна. И наоборот: деньги, достаточно большие сами по себе, служат оправданием. Поэтому лгать лучше за деньги; а только что сделанный выбор – например, в лотерее или на скачках – кажется более вероятным, почти гарантированным, хотя шансы никак не менялись.
3) Диссонанс генерирует ложное поведение. Так, более болезненные ритуалы при инициации и/или поддержании членства в определённых сообществах[1] увеличивают привязанность к нему, заставляют больше делать для неё и т.д.
Всё это показано в ситуациях «без давления», когда индивид получает впечатления от реальности сам и никто его не склоняет к определённой картине. А если склоняет, когнитивный диссонанс вдруг начинает работать против индивида, особенно если давят «от лица общества». Лучший пример этого – исследования ложных признаний и самооговоров в полиции США – пересказаны в книге Эл.Аронсона и Кэрол Теврис, см. ниже. Обратите внимание, самооговаривает себя без битья, только за счёт психологического давления следователя, не негры-латиносы, не белые бедняки, а образованные и состоятельные представители среднего класса, знающие свою выгоду и умеющие отстоять её в конкуренции. И происходит так только потому, что возникающий когнитивный диссонанс делает им позицию следователя («я опытный профессионал, давно и успешно раскрываю преступления, таких, как вы, повидал достаточно и не заподозрю зря) внутренне убедительней точного знания «это не я». Соответственно, они начинают сочинять «а может быть что-то и было», а потом вовсе сдаются.
Такая метода допроса эффективна в добыче признаний, которые там – царица доказательств, поэтому следователи в неё верят, интерпретируя отказы оговорить себя как «запирательство преступника», сигнал, что надо давить сильнее, круг замыкается. Свою лепту в рост вероятности самооговора вносит коммерческий компонент распространения токсичных методик допроса: внедряющая их фирма John Е. Reid and Associates рекламирует их именно как гарантию признаний, убеждает что «невиновные не признаются» и не заинтересована в раскрытии огрехов[2]. Что выгодно как ей, так и пользующейся её инструментарием полиции (у которой «невиновные не признаются» превращаются в «… не арестовываются»).
Именно из-за диссонанса, «работающего» против индивида, невиновность увеличивает риск быть обвинённым и посаженным, когда полицейские/следователи работают такими методами. См. описанные в тексте опыты Сола Кассина с соавторами.
Закон и беспорядок
Содержание
«Я думаю, это очень трудно для любого прокурора [признать свои ошибки и] сказать: „Ах, мы отняли у этого парня 25 лет жизни. Пора положить этому конец“».
Дейл М. Рубин, адвокат Томаса Ли Голдстайна
Томас Ли Голдстайн, студент университета, в прошлом — морской пехотинец, был осужден в 1980 г. за убийство, которого он не совершал, и провел следующие 25 лет в тюрьме. Его единственным преступлением было то, что он оказался в неудачном месте и в неудачное время. Хотя он жил неподалеку от жертвы убийства, полиция не обнаружила никаких физических улик, связывающих Голдстайна с преступлением: оружия, отпечатков пальцев или крови. У него не было мотива. Он был осужден на основе свидетельских показаний сидевшего в тюрьме полицейского информатора, с невероятным именем Эдвард Финк (fink означает «доносчик» — примеч. пер.), о том, что Голдстайн признался ему в совершенном им преступлении, когда они сидели в одной камере. Финка 35 раз арестовывала полиция, и он отбыл три срока за уголовные преступления, кроме того, Финк был героиновым наркоманом и уже выступал свидетелем по десяти разным делам (тюремный консультант описывал Финка как «притворщика, который обращается с фактами так, будто они резиновые»). Финк лгал под присягой, отрицая, что ему уменьшили тюремный срок в обмен на его свидетельские показания. В этом деле у обвинения был, кроме Финка, только один другой свидетель, Лоран Кэмпбелл, опознавший Голдстайна как убийцу после того как полиция солгала ему, будто Голдстайн не прошел тест на детекторе лжи. Ни один из пяти Остальных свидетелей-очевидцев преступления не опознал Голдстайна, а четверо из них сказали, что убийца был «темнокожим или мексиканцем». Кэмпбелл также позже отказался от своих показаний, заявив, что он «слишком старался помочь полицейским», говоря им то, что они хотели услышать. Но было уже слишком поздно. Голдстайна приговорили к 27 годам тюремного заключения за убийство.
За то время, пока Голдстайн сидел в тюрьме, пять федеральных судей согласились с тем, что обвинение лишило Голдстайна его права на справедливое рассмотрение дела, не сообщив защите о своей сделке с Финкам, тем не менее Голдстайна не освободили. Наконец, в феврале 2004 г. судья Верховного суда штата Калифорния отменил приговор «во имя восстановления справедливости», сославшись на отсутствие доказательств вины обвиняемого и «злокачественный характер рассмотрения дела», основанного на лжесвидетельстве профессионального доносчика. Даже тогда офис окружного прокурора Лос-Анджелеса отказался признать, что они допустили ошибку. Через несколько часов они подготовили новые обвинения против Голдстайна, установили сумму залога в 1 млн. долларов и объявили что будет повторное судебное расследования убийства. «Я абсолютно уверен, что мы нашли нужного парня», — заявил заместитель окружного прокурора Патрик Конноли. Два месяца спустя офис окружного прокурора признал, что не обладает доказательствами вины Голдстайна, и освободил его.
* * *
Вечером 19 апреля 1989 г. женщина, которую стали называть «джоггером из Центрального парка» была жестоко изнасилована и до смерти избита. Полиция быстро арестовала пять темнокожих и латиноамериканских подростков из Гарлема, которые «хулиганили» в парке, нападая на посетителей парка и избивая их. Полиция не без оснований видела в них подозреваемых в нападении на женщину-джоггера. Они поместили подростков в камеру предварительного заключения и подвергли их интенсивному допросу, продолжавшемуся от 14 до 30 часов. Юноши, которым было от 14 до 16 лет, наконец, сознались в преступлении, но они не просто признали свою вину: они сообщили отвратительные подробности того, что они делали. Один юноша показал, как стащил шорты с женщины-джоггера. Другой рассказал, что разрезал ножом ее футболку, и о том, как один из них несколько раз ударил женщину по голове камнем. Еще один выразил раскаяние за «первое в его жизни изнасилование», сказав, что его заставили так поступить другие парни и что он обещает больше так никогда не поступать. Хотя не было никаких физических улик, связывающих подростков с преступлением — совпадений спермы, крови или ДНК, их признания убедили полицию, присяжных, судебных медицинских экспертов и публику в том, что злоумышленники пойманы. Миллионер-девелопер Дональд Трамп потратил 80 000 $ на рекламу, призывающую вынести подросткам смертный приговор[3].
И все же подростки были невиновны. Через 13 лет преступник-рецидивист по имени Матиас Рейес, сидевший в тюрьме за три случая изнасилования и грабежа и за один случай изнасилования и убийства, признался, что это он и никто другой совершил преступление в Центральном парке. Он рассказал детали, о которых никто, кроме него, не знал, а анализ его ДНК показал, что она идентична ДНК в сперме, найденной в половых органах и на носке жертвы. Офис окружного прокурора Манхэттена, возглавляемый Робертом М. Моргентау, вел расследование почти год и не обнаружил никакой связи между Рейесом и осужденными подростками. В итоге офис окружного прокурора поддержал требование защиты снять обвинение с подростков, и в 2002 г. это было сделано. Но против решения Моргентау яростно протестовали бывшие прокуроры, прежде работавшие в этом окружном офисе, а также офицеры полиции, которые были причастны к первоначальному расследованию, так и не поверившие в невиновность подростков[4]. В конце концов, ведь подростки сознались.
В 1932 г. профессор права Йельского университета Эдвин Борчард опубликовал книгу «Осуждение невиновного: 65 реальных ошибок криминальной юстиции» («Convicting the Innocent: Sixty-five Actual Errors of Criminal Justice»). Из 65 дел, расследованных Борчардом, в восьми случаях обвиняемые были осуждены за убийства, несмотря на то, что позже выяснилось, что их предполагаемые жертвы были живы. Вы, возможно, подумали, что это могло быть расценено как убедительное доказательство серьезных ошибок, допущенных полицией и прокуратурой, тем не менее, один из прокуроров сказал Борчарду:
«Невинных людей никогда не обвиняют. Не беспокойтесь об этом, этого никогда не случается… Это физически невозможно».
Потом появились исследования ДНК. Начиная с 1989 г. — первого года, когда тестирование ДНК привело к освобождению невиновного заключенного, публике много раз представляли доказательства того, что осуждение невиновных происходило гораздо чаще, чем мы опасались. Фонд The Innocence Project («Проект „Невиновность»), основанный Барри Шеком и Питером Дж. Нойфелдом, ведет на своем вебсайте информационную базу с данными о сотнях мужчин и женщин, посаженных в тюрьму за убийства или изнасилования, а потом оправданных — чаще всего с помощью анализа ДНК, но также и с помощью других доказательств, таких как выявление ошибок в опознании подозреваемых свидетелями[5].
Реабилитация приговоренных к смертной казни, конечно, привлекает наибольшее внимание публики, но тревожит и огромное количество ошибочных приговоров за менее серьезные преступления. По результатам представительного исследования криминальных дел, в которых обвиняемый был неоспоримо оправдан, профессор права Сэмюель Р. Гросс и его сотрудники заключили, что
«…если мы рассмотрим приговоры к тюремному заключению так же тщательно, как рассматриваются смертные приговоры, то выяснится, что за последние 15 лет по таким делам следовало отменить 28 500 приговоров, а не 255, как произошло в реальности»[6].
Это тревожная диссонантная информация для каждого, кто хочет верить, что система правосудия работает. Разрешить такой диссонанс достаточно трудно и для обычного гражданина, но, если вы участник правоохранительной системы, ваша мотивация оправдать подобные ошибки, не говоря уже о ваших собственных ошибках, будет запредельной. Социальный психолог Ричард Офши, эксперт по психологии ложных признаний, однажды заметил, что обвинение невиновного человека — это одна из
«худших профессиональных ошибок, которую вы можете совершить — то же самое, что для хирурга ампутировать не ту руку»[7].
Предположим, вам представили доказательства, что вы ампутировали не ту руку: что вы послали невиновного человека в тюрьму. Что вы сделаете? Вашим первым побуждением будет отрицать вашу ошибку, и причина очевидна: желание сохранить вашу работу и защитить свою репутацию, а также — репутацию коллег. Кроме того, если вы выпустили на свободу кого-то, кто потом совершит тяжкое преступление, или освободите невиновного, но ошибочно заключенного в тюрьму за тяжкое преступление, например, педофилию — разгневанная публика может резко осудить вас за это, так как вы «проявили неоправданную мягкость в борьбе с преступностью»[8].
У вас будет много подобных внешних стимулов, чтобы отрицать свои ошибку, но у вас есть еще более важный внутренний мотив: вы хотите считать себя честным и компетентным человеком, который никогда не обвинит невиновного.
Но как вы можете считать, что обвинили того, кого следует, столкнувшись с новыми доказательствами его невиновности? Потому что вы убеждаете себя, что эти новые доказательства — неубедительные. Посмотрите: это ведь плохой парень, даже если он не совершал это конкретное преступление, то он, несомненно, совершил какое-то другое. Альтернативное объяснение, что вы послали невиновного ч8еловека в тюрьму на 15 лет — настолько не соответствует вашим представлениям о вашей компетентности, что вы используете разные интеллектуальные уловки, чтобы убедить себя в том, будто вы никак не могли допустить подобный промах.
После каждого случая освобождения по результатам анализа ДНК невиновных людей, проведших годы в тюрьме, публика может легко узнать об интеллектуальных махинациях прокуроров, полицейских и судей, занятых устранением своих диссонансов. Одна из их стратегий — утверждать, будто большинство из этих случаев — вовсе не ошибочные обвинения, а ошибочные оправдания: то, что заключенного освободили, вовсе не означает, что он или она невиновны. А, если этот человек действительно невиновен — что же, это позор, но ошибочные обвинения чрезвычайно редки, и это разумная цена за ту замечательную систему, которая уже создана и действует. Реальная проблема заключается в том, что слишком много преступников остаются безнаказанными, используя процедурные лазейки, или избегают справедливого наказания, потому что они достаточно богаты, чтобы нанять команду высокооплачиваемых адвокатов. Как сформулировал Джошуа Маркис, окружной прокурор из штата Орегон, одновременно принявший на себя роль профессионального защитника сложившейся системы криминальной юстиции:
«Американцам следует гораздо больше беспокоиться об ошибочно освобожденных, чем об ошибочно осужденных»[9].
Когда независимый Центр общественной честности (Center for Public Integrity) опубликовал свой отчет о 2012 документированных должностных преступлениях и случаях халатности прокуроров, результатом которых были ошибочные обвинения и решения суда, Маркис отмахнулся от этих цифр и вывода отчета о том, что проблема приобрела «масштаб эпидемии».
«Истина в том, что подобные случаи носят эпизодический характер, — писал он, — и эти случаи происходят слишком редко, чтобы заслуживать внимания, как судов, так и СМИ».
Когда происходят ошибки или случаи халатности, добавляет Маркиc, у системы есть много процедур самокоррекции, чтобы их немедленно исправить. В реальности, если мы станем вмешиваться в систему, чтобы внести коррективы, с целью уменьшения доли ошибочных обвинений, это приведет к тому, что мы станем освобождать слишком много виновных людей. Это заявление отражает извращенную логику самооправданий. Ведь, когда невиновного человека ошибочно обвиняют — настоящий виновник спокойно ходит по улицам.
«Среди представителей юридической профессии, — утверждает Маркиc, — прокурор единственный, кто служит только истине, даже если это означает опровержение его собственной позиции по данному делу»[10].
Эти замечательные, снижающие диссонанс сантименты в гораздо большей степени обнаруживают скрытые проблемы чем об этом догадывается Маркис. В точности из-за того, что прокуроры верят, что они раскрывают истину, они не отказываются от собственной позиции, когда это необходимо, поскольку благодаря самооправданиям, их очень редко посещает мысль о том, что это следовало бы сделать.
Совсем не обязательно быть неразборчивым в средствах и коррумпированным окружным прокурором, чтобы так думать. Роб Уорден, исполнительный директор Центра несправедливых обвинений школы права при Северо-западном университете, наблюдал, как работает диссонанс у прокуроров, которых он считает «по существу хорошими» и честными людьми, стремящимися поступать правильно. Когда был оправдан один из обвиняемых, Джек О’Мэлли, который был прокурором в этом деле, повторял раз за разом Уордену:
«Как такое может быть? Как такое может случиться?».
Уорден рассказывает:
«Он не мог этого принять. Он не понимал. Действительно, не понимал. А Джек О’Мэлли — хороший человек».
Однако прокуроры не могут отказаться от того, чтобы воспринимать себя и полицейских исключительно как «хороших парней», а обвиняемых — как «плохих парней».
«Вы включаетесь в систему, — говорит Уорден, — и вы становитесь очень циничными. Люди лгут вам везде и всегда. Потом у вас появляется версия преступления, и она приводит к тому, что мы называем „туннельным зрением“. Проходят годы, и появляются неопровержимые доказательства того, что парень был невиновным. И вы сидите здесь и думаете: „Погодите минутку. Или эти неопровержимые доказательства неверны, или я допустил ошибку — но я не мог ошибиться, потому что я — хороший парень“. Это психологический феномен, и я его вижу снова и снова»[11].
Этот феномен — самооправдания. Снова и снова, когда мы оба читаем исследования об ошибочных обвинениях в истории США, мы видим, как самооправдания могут повысить вероятность несправедливости на всех этапах процесса — от поимки подозреваемого до вынесения приговора. Полицейские и прокуроры используют методы, отобранные за долгие годы, чтобы идентифицировать подозреваемого и собрать улики для его/ее обвинения. Обычно они правы. К несчастью, те же самые методы повышают вероятность ошибки при выборе подозреваемого, приводят к игнорированию сведений, которые могут указать на другого подозреваемого, повышают их приверженность неверному решению, а затем — к отказу признать свои ошибки. По мере того как процесс движется вперед, те, кто пытается обвинить первоначального подозреваемого, часто становятся все более уверены в том, что они нашли настоящего преступника, и еще ревностнее стремятся собрать улики для его обвинения. Когда этот человек отравляется в тюрьму, уже только этот факт оправдывает все, что мы сделали, чтобы он там оказался. Кроме того, судья и присяжные согласились с нами, разве нет? Самооправдания не только отправляют невинных людей в тюрьму, но и следят за тем, чтобы они в ней оставались.
Детективы
Утром 21 января 1998 г., в городе Эскондидо в штате Калифорния, 12-летнюю Стефани Кроу нашли заколотой в ее спальне. Предыдущей ночью соседи позвонили по номеру 911, чтобы сообщить о своих опасениях по поводу появившегося в окрестностях бродяги, который вел себя странно. Этого мужчину звали Ричард Тьют, он болел шизофренией, а также в прошлом преследовал молодых женщин и врывался в их дома. Но детективы из Эскондидо и эксперты из Отдела по анализу поведения ФБР почти немедленно пришли к заключению, что убийство — дело рук кого-то из близких жертвы. Они знали, что большинство жертв убивает кто-то, с кем они были знакомы, а не сумасшедшие взломщики.
Соответственно, детективы, в первую очередь Ральф Клейтор и Крис Макдона, сконцентрировали внимание на четырнадцатилетнем брате Стефани Майкле. Майкла, который был простужен и температурил, допрашивали, не поставив в известность его родителей, в течение трех часов, а потом через некоторое время — в течение шести часов без перерыва. Детективы лгали ему: они сказали, что обнаружили кровь Стефани в его комнате, что у нее в кулаке был клок его волос, что убийца находился внутри дома, потому что все двери и окна были заперты, что кровь Стефани нашли на его одежде и что он не прошел тест компьютерного анализа тембра голоса для обнаружения признаков стресса в голосе. (Это псевдонаучный метод, который, как утверждается, может изобличать лжецов, измеряя «микротреморы» их голосов. Нет никаких научных доказательств существования «микротреморов» или обоснованности этого метода[12].)
Хотя Майкл неоднократно говорил им, что ничего не помнит о преступлении, и не мог рассказать никаких подробностей, например куда он дел оружие убийства, он, в конце концов, признался, что убил Стефани в припадке гнева, вызванного ревностью. Через несколько дней полиция также арестовала 15-летних друзей Майкла: Джошуа Тредвея и Аарона Хаузера. Джошуа Тредвей после допросов, продолжавшихся 22 часа (!), рассказал подробную историю о том, как они втроем договорились убить Стефани.
Накануне суда ситуация резко изменилась: кровь Стефани обнаружили на свитере того самого бродяги Ричарда Тьюта, в который он был одет в ночь убийства. Эта улика вынудила тогдашнего окружного прокурора Пола Фингста отозвать обвинения против подростков, хотя он сказал, что все равно остается убежденным в их вине, поскольку они в ней признались, и поэтому не станет выдвигать обвинений против Тьюта. Детективы, преследовавшие подростков, Клейтор и Макдона, остались уверены в том, что они поймали настоящих убийц. Они на свои деньги опубликовали книгу, в которой оправдывали свои методы и мнение. В этой книге они утверждали, что Ричард Тьют был просто невезучим парнем, из которого сделали козла отпущения, бродягой, которого использовали как пешку политики, пресса, знаменитости, а также адвокаты, нанятые семьями подростков, чтобы «переложить вину с их клиентов на Тьюта»[13].
Подростков освободили, и дело было передано другому детективу из того же отдела. Вику Калоке, чтобы он его закрыл. Несмотря на сопротивление полиции и окружной прокуратуры, Калока начал собственное расследование. Другие полицейские перестали с ним разговаривать, судья бранил его за то, что он поднимает шум, прокуроры игнорировали его просьбы о помощи. Ему пришлось получать постановление суда, чтобы добыть из лаборатории нужные ему улики. Калока действовал настойчиво и, в конце концов, написал 300-страничный отчет, в котором перечислялись «спекуляции, неверные оценки и спорные улики», использованные в деле против Майкла Кроу и его друзей. Поскольку Калока не был участником первоначальной команды, проводившей расследование и поспешившей сделать неверные выводы, улики против Тьюта не вызывали у него диссонанса — для него это были обычные улики.
Калока в обход офиса окружного прокурора представил доказательства в офис главного прокурора штата Калифорния в Сакраменто. Там помощник главного прокурора Дэвид Друлинер дал согласие на предъявление обвинений Тьюту. В мае 2004 г., через 6 лет после того как детективы, которые вели первоначальное расследование, исключили Ричарда Тьюта из круга подозреваемых и сочли его безобидным бродягой и мошенником, Ричард Тьют был осужден за убийство Стефани Кроу. Друлинер раскритиковал первоначальное расследование, проведенное детективами из Эскондидо.
«Они выбрали в корне неверное направление, что нанесло ущерб расследованию, — сказал он, — почему они не сосредоточились на мистере Тьюте — мы просто не можем этого понять»[14].
А мы теперь — можем. Кажется нелепым, что детективы не изменили свое мнение или хотя бы не начали сомневаться, когда кровь Стефани нашли на свитере Тьюта. Но, как только детективы убедили себя, что Майкл и его друзья виновны, они начали спуск по пирамиде принятия решения, используя самооправдания, и если во время спуска сталкивались с препятствием, продолжали этот спуск, пока не оказались в самом низу.
Давайте начнем с вершины: начального процесса поиска подозреваемого. Многие детективы делают то же, к чему склонны мы все, когда мы впервые слышим о каком-то преступлении: мы делаем импульсивное заключение о том, что произошло, а потом подгоняем факты так, чтобы они поддерживали наш вывод, игнорируя или считая малозначимыми данные, которые ему противоречат. Социальные психологи много и подробно исследовали этот феномен, ставя людей на место присяжных и анализируя факторы, влияющие на их решения. В одном эксперименте присяжные слушали аудиозапись инсценировки реального судебного разбирательства дела об убийстве, а потом объясняли, как бы они проголосовали и почему. Вместо того чтобы выносить вердикт на основе анализа улик и доказательств, большинство людей с самого начала придумывали свою историю о том, что произошло, а затем, когда во время имитации судебного процесса им представляли факты и доказательства, они принимали только те из них, которые подтверждали их уже сложившуюся версию того, что произошло. Чем раньше люди приходили к заключению о виновности подозреваемого, тем вероятнее было, что они будут оправдывать свое решение, голосуя за наиболее суровый вердикт[15]. Это нормально для людей, но это вызывает тревогу.
Во время своей первой беседы с подозреваемым, детективы склонны быстро принимать решение: этот парень виновен или невиновен? С течением времени, приобретя опыт, полицейские учатся делать акцент на одних линиях расследования и отвергать другие, становясь все более уверенными в правильности своего выбора. Их уверенность — частично следствие опыта, частично — следствие методов, которым их обучают, поощряющих быстроту и уверенность, а не осторожность и сомнения. Джек Кирш, бывший начальник Отдела по анализу поведения ФБР, рассказал интервьюеру, что офицеры полиции, столкнувшись со сложными случаями, обращаются к сотрудникам этого отдела за советом.
«Нам приходилось импровизировать, но мы не боялись „стрелять навскидку“ и обычно попадали в цель, — говорит он. — Мы поступали так тысячи раз»[16].
Эта уверенность часто обоснована, потому что полиция обычно расследует такие дела, в которых подозреваемые очевидны, и нужно собрать доказательства, подтверждающие их вину. Тем не менее, подобная уверенность в себе повышает риск того, что виновным будет объявлен непричастный к преступлению человек, и полиция слишком рано закроет дело, отказавшись от поиска других возможных подозреваемых. Как только «двери закрылись» — то же происходит и с мозгом. Например, детективы даже не попытались использовать свой экзотический «анализатор тембра голоса» при допросе Тьюта, как они поступили при допросе Кроу. Детектив Макдона объяснил, что
«…поскольку было известно, что Тьют был в прошлом, а, возможно, и сейчас, психически болен и принимал наркотики, тестирование признаков стресса по голосу могло быть ненадежным»[17].
Иными словами, давайте использовать наш ненадежный чудо-прибор только для тех подозреваемых, которых мы считаем виновными, потому что, что бы они ни делали, это подтвердит наше мнение, а для тех, кого мы считаем невиновными, мы его использовать не будем, так как в их случае он все равно не будет работать.
Первоначальное решение о виновности или невиновности подозреваемого может казаться очевидным и обоснованным: подозреваемый может соответствовать описанию, данному жертвой или свидетелем, или относиться к категории, подходящей по статистическим данным.
«Ищи тех, кого связывали с жертвой, любовь или деньги, да пребудет сила с тобой».
Таким образом, в большинстве случаев убийств наиболее вероятный убийца — это любовник, супруг, бывший супруг, родственник или человек, который получает материальную выгоду от смерти жертвы. Когда убита молодая женщина, говорит лейтенант полиции Ральф М. Лейсер:
«…подозреваемый № 1 — это близкий ей человек. Вам не следует искать какого-то незнакомого парня из фургона».
Лейсер этим заявлением оправдывал свою уверенность в том, что американскую студентку китайского происхождения Биби Ли убил ее молодой человек Брэдли Пейдж, и поэтому детектив Лейсер игнорировал показания свидетеля-очевидца, который видел, как неподалеку от места преступления мужчина затолкнул молодую «восточную» женщину в фургон и уехал[18]. Однако, как отмечает адвокат Стивен Дризин:
«Вполне легитимно начинать расследование с опросов членов семьи, но не более того. Вместо того чтобы пытаться доказать, что убийца — это один из членов семьи, полицейским нужно расследовать все версии. Но слишком часто они этого не делают»[19].
Как только детектив решает, что нашел убийцу, свойственная людям «ошибка подтверждения» — позаботиться о том, чтобы главный подозреваемый остался единственным подозреваемым. И, как только это произошло, — невиновный подозреваемый оказывается загнанным в угол. В случае Патрика Данна из города Бейкерсфилд, штат Калифорния, который мы упоминали во введении, полицейские решили верить неподтвержденным показаниям профессионального уголовника, поддерживавшим их теорию, будто Данн был виновен, но не документально подтвержденным показаниям беспристрастной свидетельницы, которые Данна оправдывали. Обвиняемый не мог поверить в такое решение и спрашивал своего адвоката Стэна Симрина:
«Но разве им не нужна правда?».
«Да, нужна, — ответил Симрин, — и они убеждены в том, что ее обнаружили. Они верят в то, что вы виновны. И теперь они сделают все, что в их силах, чтобы добиться для вас обвинительного приговора»[20].
Попытки делать все возможное для обвинительного приговора приводят к игнорированию и признанию неважными фактов, требующих от офицеров полиции изменить свое мнение о подозреваемом. В крайних случаях у отдельных офицеров или даже у всего отдела появляется искушение перейти грань, отделяющую законные действия от противозаконных. Отделение полиции Лос-Анджелеса в Рампарте создало отдел по борьбе с бандитизмом, десятки сотрудников которого были обвинены в производстве незаконных арестов, лжесвидетельстве и фабрикации обвинений против невинных людей, почти 100 приговоров было отменено, поскольку сторона обвинения использовала незаконные методы. В Нью-Йорке государственное расследование в 1989 г. обнаружило, что отделение полиции округа Саффолк сфабриковало ряд крупных дел, избивая подозреваемых, незаконно прослушивая телефоны и теряя или фабрикуя важные улики.
Подобными коррумпированными фальсификаторами офицеры полиции не рождаются — они ими становятся. Они спускаются к подножию пирамиды из-за норм организационной культуры, принятых в их отделении полиции, и своей приверженности этим противоправным нормам. Профессор права Эндрю Макклург проследил процесс, который приводит многих офицеров к совершению поступков, которые они даже не могли себе представить, когда новички-идеалисты начинали свою карьеру в полиции. Сначала предложение солгать при исполнении своих служебных обязанностей вызывает диссонанс: «Я здесь для того, чтобы защищать закон» не согласовывается с тем, что: «И вот я сам его нарушаю». С течением времени, отмечает Макклург, они «учатся снижать свой диссонанс, используя мягкую перину самооправданий».
После того как офицеры начинают считать, что ложь можно оправдать и даже, что она — важный аспект их работы, добавляет он,
«диссонантное ощущение собственного лицемерия больше не возникает. Офицер учится оправдывать ложь как моральный поступок или, по крайней мере, как не аморальный. Таким образом, его представление о себе как о порядочном и высокоморальном человеке — почти не страдает»[21].
Допустим, вы — полицейский, и у вас есть ордер на обыск притона, где торгуют крэк-кокаином. Вы гонитесь за парнем, который прячется в туалет, вы надеетесь поймать его до того, как он выброси т наркотик в унитаз, но не успеваете. И вот вы стоите, тяжело дыша, в вашей крови кипит адреналин, вы вкалывали, а этот подонок ускользнет? Вы накрыли притон, все знают, что тут делается, но эти негодяи просто уйдут? Они найдут ловкого адвоката, и их освободят, не успеете вы и глазом моргнуть. Весь ваш труд, риск и опасности, которым вы подвергались, все это было зря? Почему бы не вытащить из своего кармана небольшую дозу крэка, уронить ее на пол в туалете и припереть подонка к стенке? Все, что вам нужно сказать:
«Эта доза крэка выпала у него из кармана, и он не успел спустить ее в унитаз»[22].
Легко понять, почему вы бы так поступили в определенных обстоятельствах. Потому что вы хотите делать свою работу. Вы знаете, что незаконно подбрасывать улики, но это кажется таким оправданным в данном случае. Когда вы в первый раз делаете это, вы говорите себе: «Этот парень виновен!». Придет опыт, и в следующий раз вам будет это легче сделать снова: в реальности у вас появится сильный мотив повторить такой поступок, потому что в противном случае вы признаетесь, пусть только себе, что, когда вы в первый раз это сделали, это было неправильно. Вскоре вы будете нарушать правила в более сомнительных ситуациях. Поскольку сложившиеся неформальные нормы полиции в целом поддерживает подобные оправдания, офицеру полиции становится все труднее сопротивляться искушению нарушать (или по-своему интерпретировать) правила и нормы закона. В конечном итоге, многие полицейские сделают следующие шаги и начнут проповедовать эту философию «гибкого закона» другим офицерам, убеждая их поступать так же, и избегая или бойкотируя тех коллег, которые с ними не соглашаются. Ведь эти несогласные напоминают им о том моральном пути, с которого они свернули.
Действительно, в 1992 г. комиссия под руководством бывшего судьи Моллена в своем отчете о коррупции в Полицейском управлении Нью-Йорка сделала вывод, что фальсификация улик полицией «настолько обычна на некоторых участках, что для нее появился даже новый термин: „testilying“ (по смыслу — лжесвидетельствовать, неологизм созвучен английскому „testifying“ — давать свидетельские показания — примеч. пер.)[23]. В таких полицейских культурах сотрудники полиции часто лгут, чтобы оправдать обыски (без ордера) каждого подозреваемого в хранении наркотиков или оружия, лгут в суде, будто они задержали подозреваемого, потому что он проехал на красный свет, потому что они якобы видели, как подозреваемый передавал другому человек) наркотики или выбросил их, когда к нему подошел офицер полиции, что послужило основанием для ареста и обыска. Норм Стемпер, который 34 года работал в полиции и был начальником полицейского управления в Сиэтле, написал, что в стране нет ни одного крупного подразделения полиции, которое бы избежало таких проблем, как использование офицерами полиции наркотиков Для собственных нужд, подбрасывание наркотиков подозреваемым или вымогательство денег у мелких торговцев наркотиками[24]. Наиболее распространенное оправдание для лжи и подбрасывания улик: Цель оправдывает средства. Один офицер полиции заявил комиссии Моллена, что он „совершал богоугодное дело“. Другой сказал:
„Если мы хотим ловить этих парней — плевать на Конституцию“.
Когда одного из офицеров полиции арестовали за лжесвидетельство — он спросил, не веря тому, что происходит:
„А что в этом плохого? Ведь они виновны“[25].
Вот „что в этом плохого“: никто, кроме них самих, не может помешать полицейским подбрасывать улики и лжесвидетельствовать, чтобы добиваться обвинительного приговора для человека, которого они считают виновным — а он может быть невиновным. Коррумпированные полицейские, определенно, опасны для общества, но то же относится и к благонамеренным полицейским, которые никогда не хотели сажать невинных людей в тюрьму. В определенном смысле честные полицейские могут быть даже опаснее, чем коррумпированные, потому что их больше, и их должностные преступления труднее выявить. Проблема в том, что как только они приняли решение о том, кто наиболее вероятный подозреваемый, они уже не допускают мысли, что этот человек может быть невиновным. А потом они действуют так, чтобы подтвердить свой первоначальный вывод, оправдывая использование разных методов давления, в том числе и незаконных, тем, что эти методы работают, только если подозреваемые виновны.
Следователи
Наиболее важное доказательство, которое может представить детектив, ведущий расследование, это признание подозреваемого, потому что высока вероятность, что оно убедит прокурора, присяжных и судью в вине подозреваемого [«признание — царица доказательств» такая же общечеловеческая когнитивная иллюзия, как и «невиновный никогда не признается». Прим.публикатора]. Соответственно, следователей, ведущих допросы, обучают добиваться признаний, даже если для этого они лгут подозреваемому и используют, как гордо заявил один детектив репортеру, „различные трюки и обман“[26]. Большинство людей удивляются, узнав, что это считается абсолютно законным. Детективы гордятся своей способностью сбивать с толку подозреваемых и добиваться от них признания, считая это доказательством того, что они овладели своим нелегким ремеслом. Чем выше их уверенность в собственной правоте, тем сильнее диссонанс, который они чувствуют, столкнувшись с доказательствами того, что они ошиблись, и тем сильнее их потребность отвергнуть эти доказательства.
Вынуждать невиновного человека признаться — это, очевидно, одна из самых опасных ошибок, которая может случиться во время полицейского допроса, но большинство детективов, прокуроров и судей не думает, что такое возможно.
«Идея, что можно кого-то заставить сделать ложное признание — нелепость, — говорит Джошуа Маркис. — Это „защита Твинки[27]“ в наше время. Это худший пример псевдонауки»[28].
Большинство людей соглашается с этим, потому что не могут себе представить, как они сами могли бы признаться в преступлении, если бы были невиновны. Мы бы протестовали. Мы бы стояли на своем. Мы бы позвонили своему адвокату… разве не так? Тем не менее, исследование тех дел, в которых заключенные по приговору суда были в итоге полностью оправданы, показывают, что от 15 до 25 % из них сознавались в преступлениях, которых в реальности они не совершали. Социологи, психологи и криминологи проанализировали эти случаи и провели экспериментальные исследования, чтобы показать, как такое может происходить.
«Библия» методов допросов — это книга «Уголовные допросы и признания» («Criminal Interrogation and Confessions»), написанная Фредом Инбау, Джоном Рейдом, Джозефом Бакли и Брайаном Джейном. Фирма John Е. Reid and Associates предлагает образовательные программы, семинары и видеозаписи для обучения 9-этапной методике допросов Рейда, а на их вебсайте утверждается, что они обучили более 300 000 работников правоохранительных органов наиболее эффективным способам добиваться признания. Руководство для изучения этого метода начинается с заверения читателей в том, что
«ни один из этих приемов не может заставить невиновного человека сознаться, и все эти методы законны и оправданы с точки зрения морали»[29]:
«Мы ясно заявляем: простое использование фиктивных доказательств во время допроса не заставит невинного человека признаться в преступлении. Абсурдно верить, будто подозреваемый, знающий, что не совершал преступления, придаст больше значения и больше поверит фиктивным уликам, а не своему собственному знанию о своей невиновности.
В таких обстоятельствах естественной человеческой реакцией будут гнев и недоверие к следователю. Основным эффектом будет еще большая решимость подозреваемого доказывать свою невиновность»[30].
Неверно. «Естественной человеческой реакцией» обычно оказываются в этом случае не гнев и недоверие, а замешательство и беспомощность, т. е. диссонанс, потому что большинство невиновных подозреваемых верят, что следователь им не врет. Следователь, однако, с самого начала предубежден. Цель беседы с подозреваемым — получить важную информацию от этого человека, допрос же ведется так, чтобы заставить подозреваемого признать свою виновность. (Подозреваемый часто не знает об этих различиях). Руководство Рейда прямо говорит об этом:
«Допрос проводится, только если следователь достаточно уверен в виновности подозреваемого».
Опасность такой позиции в том, что, если следователь «достаточно уверен», подозреваемый не может его переубедить. Напротив, все, что делает подозреваемый, будет интерпретироваться как доказательство его лжи, отрицания вины и попытки скрыть правду, включая и его постоянные утверждения о невиновности. Следователей прямо инструктируют думать именно так. Их учат такому отношению к подозреваемому:
«Не лгите, мы знаем, что вы виновны»,
а также инструктируют отвергать отрицания подозреваемым своей вины. Вы уже видели этот цикл самооправданий раньше, когда речь шла о том, каким способом психотерапевты и социальные работники интервьюируют детей, подвергшихся, как они считают, сексуальным домогательствам. Как только начался допрос в подобном стиле, такой вещи как опровергающие доказательства просто не существует[31].
Те, кто продвигает методику Рейда, интуитивно понимают, как работает диссонанс (по крайней мере, у других людей). Они понимают, что если дать человеку шанс протестовать и отрицать свою виновность, он сделает об этом публичное заявление, и тогда будет сложнее заставить его отказаться от сказанного и признать вину.
«Чем больше подозреваемый отрицает свое участие, — пишет Луи Сенесе, вице-президент фирмы Reid and Associates, — тем труднее ему признать, что он совершил преступление»,
— именно так и происходит: из-за диссонанса. Таким образом, Сенесе советует следователям, ведущим допрос, подготовиться к отрицанию подозреваемым своей вины и сразу пресекать подобную реакцию. Следователи, говорит он, должны следить за невербальными сигналами в поведении подозреваемого, сообщающими, что он собирается отрицать свою вину («он поднимает ладонь в отрицающем жесте, качает головой или не смотрит в глаза»), и если подозреваемый прямо говорит: «Можно мне сказать?» — следователи должны отреагировать на это, прервав его, и сказать, обратившись к нему по имени: («Джон, подождите минутку») и продолжить допрос[32].
Убежденность следователя в виновности подозреваемого становится «самореализующимся пророчеством». Оно побуждает следователя вести себя агрессивнее, в результате невиновный субъект начинает, по мнению следователя, вести себя все более подозрительно. В одном эксперименте социальный психолог Сол Кассин с коллегами объединяли в пары субъектов, как виновных в краже, так и невиновных, со следователями, которым (независимо от реальной виновности) сообщалось, что данный субъект виновен и невиновен. Таким образом, было четыре возможных комбинации подозреваемых и следователей: вы невиновны, и он думает, что вы невиновны; вы невиновны, но он думает, что вы виновны; вы виновны, но он думает, что вы невиновны; и вы виновны, и он думает, что вы виновны. «Смертельным» сочетанием, в котором следователь оказывал самое сильное давление, были пары, в которых следователь был убежден, что субъект виновен, а тот на самом деле был невиновным. В этих обстоятельствах, чем больше субъект отрицал свою виновность, тем следователь становился увереннее, что он врет, и давил на подозреваемого все сильнее и сильнее.
Кассин часто читает лекции для детективов и офицеров полиции, чтобы показать им, как их приемы допроса могут дать неверный результат. Они, как он рассказывает, кивают и соглашаются с ним, что ложных признаний нужно всячески избегать, но потом немедленно добавляют, что они, лично, никогда не заставляли кого-то делать ложные признания своей вины.
«А откуда вы об этом знаете?»
— спросил Кассин одного полицейского.
«Потому что я никогда не допрашивал невиновных людей»,
— сказал он. Кассин обнаружил, что эта уверенность в собственной непогрешимости начинается на самом высшем уровне.
«Я был на международной конференции по полицейским допросам в Квебеке и участвовал в дискуссионной группе вместе с Джо Бакли — президентом Школы Рейда, — рассказал он нам. — После его презентации кто-то из аудитории спросил его, не беспокоит ли его то, что его методы допроса могут заставить признаться в преступлении некоторых невиновных людей. Пусть меня пристрелят, если он не сказал это дословно — я был так поражен его неприкрытым высокомерием, когда я записал эти слова, а также тем, в какой обстановке это было сказано:
„Нет, потому что мы не допрашиваем невиновных людей“»[33].
На следующей стадии подготовки детективов учат тому, чтобы они умели уверенно читать невербальные сигналы в поведении подозреваемого: зрительный контакт, язык тела, поза, жестикуляция и эмоциональность их отрицаний вины. Если субъект не смотрит вам в глаза, объясняет руководство, это признак лжи. Если человек сидит на стуле, ссутулившись, или сидит неподвижно — это признак лжи. Однако методика Рейда советует следователям «избегать с подозреваемым зрительного контакта». Они не дают возможности подозреваемому установить с ними зрительный контакт, несмотря на то, что считают готовность смотреть следователю в глаза признаком невиновности?
Методика Рейда, таким образом, это закрытый цикл: как мне узнать, что подозреваемый виновен? Заметив, что он нервничает и потеет (или, напротив, что у него хороший самоконтроль) и что он не смотрит мне в глаза (но я не дал бы ему это делать, даже если он этого хочет). Итак, мы с моими партнерами допрашиваем его 12 часов, используя методику Рейда, и он сознается. Таким образом, поскольку невиновные люди никогда не сознаются, его признание подтверждает мое убеждение в том, что если он слишком нервничает и потеет (или слишком спокоен), или смотрит мне в глаза (или не смотрит) — все это признаки его виновности. По логике подобной системы, единственную ошибку, которую может допустить детектив — это не суметь добиться признания.
Руководство написано авторитарным стилем — таким, будто это глас Господа, открывающий несомненные истины, но в реальности оно не учит читателей ключевым принципам научного мышления: важности изучения и исключения других возможных объяснений поведения человека, перед тем как принимается решение, какое из этих объяснений наиболее вероятно. Сол Кассин, например, участвовал в расследовании дела военной прокуратурой, в котором следователи безжалостно и сурово допрашивали обвиняемого, против которого не было прямых улик. (Кассин считал, что обвиняемый был невиновен, и его, действительно, оправдали). Когда одного из следователей спросили, почему он так агрессивно давил на подзащитного, он ответил:
«Мы догадались, что он нам не рассказывает всю правду. Некоторые особенности его языка тела показывали, что он пытается сохранять спокойствие, но вы бы заметили, что он нервничал, и всякий раз, когда мы задавали ему вопрос, он отводил взгляд и не смотрел нам в глаза, иногда он суетился, а однажды даже заплакал».
«То, что он описал, — говорит Кассин, — это типичное поведение человека в стрессовой ситуации».
Тем, кто изучает методику Рейда, обычно не объясняют, что нервозность, суетливые движения, избегание зрительного контакта и желание человека съежиться — могут быть вовсе не признаками его виновности. Это может быть признаком нервозности, подростковой неуверенности в себе, культурных норм, вызова властям или тревоги по поводу того, что человека могут в чем-то незаслуженно обвинить.
Те, кто продвигает методику Рейда, утверждают, что их метод обучает следователей верно определять, говорит ли подозреваемый правду или лжет в 80–85% случаев. Для этого утверждения просто нет никаких научных доказательств. Как мы уже отмечали, когда в четвертой главе обсуждались психотерапевты, обучение не повышает точность — оно повышает уверенность людей в своей правоте. В одном из многочисленных исследований ложной уверенности людей в своей правоте Кассин и его коллега Кристина Фонг обучали группу студентов методике Рейда. Студенты смотрели обучающие видеоматериалы Рейда, читали его руководство, а потом проверялось, действительно ли они овладели этой методикой. Потом их просили смотреть видеозаписи допросов людей опытными офицерами полиции. Некоторые из подозреваемых в видеозаписях были виновны в преступлении, но отрицали это, а другие — отрицали свою виновность и, действительно, были невиновны. Обучение ни на йоту не увеличило точность заключений студентов. Вероятность правильного вывода не превышала вероятность случайного угадывания, но зато студенты стали гораздо увереннее в своих способностях. Все же, это были студенты университета, а не профессионалы.
Итак, Кассин и Фонг попросили 44 детективов во Флориде, США и в Онтарио, Канада, посмотреть те же видеозаписи. У этих профессионалов было в среднем 14 лет опыта работы, а две трети из них прошли специальное обучение, в том числе, методике Рейда. Как и студенты, они не превысили вероятности случайного угадывания, но зато были убеждены, что сделали точное заключение практически в 100 % случаев. Их опыт и подготовка не улучшили качество результатов. Они просто повысили их уверенность в том, что они правы[34].
Тем не менее, почему же невиновные подозреваемые не продолжают просто отрицать свою вину? Почему они не злятся на следователя, как согласно методике Рейда, должны вести себя невиновные люди? Предположим, вы невиновный человек, которого пригласили в полицию для беседы, возможно, «чтобы помочь полиции в расследовании». Вы и не догадываетесь о том, что вы — главный подозреваемый. Вы верите полиции и хотите ей помочь. Однако детектив говорит вам вдруг, что ваши отпечатки пальцев обнаружены на оружии убийства. Потом вы не проходите тест на детекторе лжи. Вам говорят, что вашу кровь нашли на теле жертвы или что кровь жертвы была обнаружена на вашей одежде. Эти утверждения вызовут у вас сильный когнитивный диссонанс:
Комплекс знаний 1: Я не был там. Я не совершал преступление. Я не помню об этом.
Комплекс знаний 2: Надежные и вызывающие доверие люди, обладающие властью, говорят мне, что мои отпечатки пальцев найдены на оружии, что кровь жертвы нашли на моей рубашке, а свидетель видел меня в том месте, где, как я уверен, я не был.
Как вы разрешите этот диссонанс? Если вы достаточно сильны, достаточно богаты или у вас достаточно опыта общения с полицией, чтобы знать, что вас подставляют, вы скажете три волшебных слова: „Мне нужен адвокат“. Но многие люди верят, что им не нужен адвокат, если они невиновны[35]. Полагая, как они верят, что полиции не разрешено им лгать, они изумлены тем, что против них есть все эти улики, чего они не могут объяснить. И, черт побери, какие веские доказательства — отпечатки пальцев! В методике Рейда утверждается, что „инстинкт самосохранения невиновного человека во время допроса“ перевесит все, что делает следователь, ведущий допрос, но для уязвимых, не уверенных в себе людей потребность понять, что происходит, оказывается важнее, чем инстинкт самосохранения.
Брэдли Пейдж: Возможно ли, что я совершил ужасную вещь и абсолютно забыл об этом?
Лейтенант Лейсер: О, да. Так часто случается.
А теперь полиция предлагает вам разумное объяснение, способ разрешения вашего диссонанса: вы не помните, потому что вы отключились; вы были пьяны и потеряли сознание; вы вытеснили эти воспоминания; вы не знали, что психически больны — у вас синдром расщепления личности, и преступление совершила ваша другая личность. Вот что говорили во время допросов полицейские Майклу Кроу. Они сказали ему, что может быть „двое Майклов“ — хороший и плохой, и что плохой Майкл совершил преступление, а хороший Майкл ничего об этом не знает.
Конечно, скажете вы, Майклу было всего 14 лет — неудивительно, что полиция смогла его запугать и заставила признаться. Это правда, что подростки и душевно больные люди особенно уязвимы при использовании подобных тактик, но это относится и к некоторым вполне здоровым взрослым. Подробно исследовав 125 случаев, в которых заключенные были оправданы и освобождены, несмотря на то, что ранее сделали ложные признания, Стивен Драйзин и Ричард Лио обнаружили, что из этих людей 40 были подростками, 28 — умственно отсталыми, а 57 — нормальными взрослыми. В тех случаях, когда можно было определить, сколько времени продолжались допросы, более чем в 80 % случаев ложные признания были вытянуты после того как допрос продолжался шесть и более часов без перерыва, в половине случаев — более 12 часов, а в некоторых случаях — практически без перерывов двое суток[36].
Так и произошло с подростками, арестованными в Центральном парке, в тот вечер, когда была убита женщина-джоггер. Когда социологи, психологи и криминологи смогли изучить видеозаписи допросов 4 из 5 подростков (допрос пятого не записывался), а потом офис окружного прокурора Роберта Моргентау снова изучил все доказательства, основываясь на предположении о том, что на самом деле подростки были невиновны, драматическая убедительность их признаний улетучилась. Их показания оказались полными противоречий, фактических ошибок, догадок и сведений, которые были навязаны наводящими вопросами следователей[37]. И, несмотря на уверенность публики, будто все они признались, в реальности ни один из подростков никогда не признавался, будто лично он изнасиловал женщину-джоггера. Один сказал, что „схватил ее“. Другой — что „щупал ее грудь“. Еще один сказал, что „держал и гладил ее ногу“. В ходатайстве окружного прокурора об освобождении обвиняемых было отмечено, что
„показания пяти подсудимых отличались друг от друга практически по всем главным деталям преступления — кто напал первым, кто сбил жертву, кто её раздел, кто ударил ее, кто держал ее, кто насиловал ее, какое оружие использовалось при нападении и в какой последовательности развивались события во время нападения“[38].
После многочасового допроса, когда хочется только одного, чтобы отпустили домой, измученный подозреваемый принимает обвинение, предложенное ему следователями как единственно возможное и разумное. И признается. Обычно, как только на него перестают давить и дают выспаться, он немедленно отказывается от своего признания. Но часто уже слишком поздно.
Обвинители
В замечательном фильме „Мост через реку Квай“ („The Bridge on the River Kwai“) полковник Гиннес со своими солдатами, попавшие в плен к японцам во время Второй мировой войны, строят железнодорожный мост, который поможет их врагам в войне. Гиннес соглашается на это требование своих тюремщиков, чтобы сплотить своих людей и поднять их моральный дух, но, пока он строит мост, тот становится его мостом — источником гордости и удовлетворения. Когда в конце фильма Гиннес находит идущие к мосту провода, понимает, что мост заминирован, и командование союзников планирует его взорвать — его первая реакция такова:
„Вы не можете это сделать! Это мой мост. Как вы смеете взрывать его!“.
К ужасу наблюдающих за ним британских диверсантов-коммандос он пытается перерезать провода, чтобы защитить мост. Только в самый последний момент Гиннес кричит: „Что я наделал?“ — поняв, что чуть не сорвал усилия своих, и едва не помог врагу, так как хотел сохранить свое великолепное творение.
Сходным образом, многие прокуроры подрывают самую главную цель своей профессии — правосудие, не решаясь отказаться от своих неверных представлений и обвинения. К тому времени, когда прокуроры включаются в судебный процесс, они часто оказываются в ситуации перенесенного в реальный мир эксперимента по самооправданию своих усилий. Они выбрали это дело из многих других, поскольку убеждены, что подозреваемый виновен и что у них есть доказательства, чтобы он был осужден. Они часто тратят много месяцев работы, чтобы подготовить дело к суду. Они напряженно работали с полицейскими, свидетелями и потрясенными и часто враждебно настроенными родственниками обвиняемого. Если это преступления, вызвавшие эмоциональную реакцию публики, они испытывают огромное давление, вынуждающее их быстро готовить обвинение. Любые сомнения, которые могут у них появиться, нейтрализуются удовлетворенностью от того, что они представляют силы добра в противостоянии с подлым преступником. Итак, с чистой совестью прокуроры говорят присяжным:
„Этот подсудимый не человек — он чудовище. Сделайте верный выбор. Проголосуйте за обвинительный приговор“.
Иногда нм удается настолько убедить себя в том, что они имеют дело с монстром, что они, подобно полицейским, заходят слишком далеко: они инструктируют свидетелей, что им говорить, заключают сделки с тюремными информаторами, не предоставляют защите всей информации, которую они должны предоставить по закону.
Как же большинство прокуроров прореагируют, когда через несколько лет осужденный насильник или убийца все еще продолжает утверждать, что он невиновен (как, не стоит об этом забывать, поступают и многие закоренелые преступники) и требует провести анализ ДНК? Или утверждает, что его заставили признаться, оказав на него давление? Или находит доказательства, предполагающие, что свидетельские показания, на основе которых он был осужден, были ошибочными? Что, если обвиняемый может оказаться не монстром, несмотря на всю тяжелую работу, проделанную обвинителями, чтобы убедить себя и других в его виновности? Типична реакция прокуроров из штата Флорида. После того как 130 осужденных были освобождены по результатам теста ДНК в течение 15 лет, прокуроры решили, что их ответом будет энергичное оспаривание доказательств в других сходных случаях. Уилтон Дедж вынужден был подавать в суд на штат, чтобы доказательства в его деле были снова проверены, несмотря на яростные возражения прокуроров, утверждавших, что в интересах штата скорее завершить это дело, и необходимость защитить чувства жертвы преступления важнее, чем возможная невиновность Деджа[39]. Дедж, в итоге, был оправдан и освобожден.
То, что заинтересованность в завершении дела и защита чувств жертвы должны препятствовать правосудию — это пугающий аргумент из уст тех, кому доверено правосудие, но такова мощь самооправданий. (Кроме того, разве жертвы преступлений не почувствуют себя лучше, если настоящий убийца того, кого они любили, будет пойман и наказан?) По всей стране использование анализа ДНК позволило освободить сотни неправомерно осужденных заключенных, и в новостях обычно цитируют прокуроров, участвовавших в первоначальном судебном процессе. Например, в Филадельфии окружного прокурора Брюса Л. Кастора-младшего журналисты спросили, какие у него были основания, для того чтобы отвергать анализ ДНК, благодаря которому был освобожден мужчина, отсидевший в тюрьме 20 лет. Он ответил:
„У меня нет научных оснований. Я знаю (что прав), потому что верю моим детективам и признанию, записанному на видео“[40].
Каким образом мы узнаем, что такой легкомысленный отказ от анализа ДНК, метода, который убедителен для почти любого человека на этой планете, это признак самооправданий, а не просто честная оценка доказательств? Это похоже на исследование, проведенное на лошадиных скачках, описанное в первой главе: после того как мы сделали нашу ставку, мы уже не хотим узнавать какую-то информацию, которая может поставить под сомнение наше решение. Вот почему прокуроры будут оценивать одно и то же доказательство двумя разными способами, в зависимости от того, когда оно обнаружено. В начале расследования полиция использует ДНК, чтобы подтвердить виновность подозреваемого или исключить его из круга подозреваемых. Но, если анализ ДНК используется уже после того как подсудимый был обвинен и осужден, прокуроры обычно считают, что анализ ДНК не относится к делу, или он — недостаточная причина, чтобы возобновлять расследование. Техасский прокурор Майкл Маккдугал сказал, что несовпадение ДНК, обнаруженной у молодой девушки, которая была изнасилована и убита, с ДНК Роя Крайнера — мужчины, обвиненного в этом преступлении, не означает, что Крайнер невиновен.
„Это значит, что найденная сперма ему не принадлежит, — сказал он. — Это не означает, что он не изнасиловал ее, и не означает, что он не убивал ее“[41].
Технически, Маккдугал, конечно, прав: Крайнер мог изнасиловать женщину в Техасе, а эякулировать где-то в другом месте, допустим, в Арканзасе. Но доказательства, основанные на ДНК, следует использовать одинаковым образом, когда бы они ни появились, и именно потребность в самооправдании мешает многим прокурорам так поступать. Адвокат Питер Дж. Нойфелд говорит, что, по его опыту, изменение интерпретации доказательства, чтобы оправдать первоначальный вердикт — это очень распространенная практика среди прокуроров и судей. Во время процесса теория прокурора такова: один человек, а именно: подсудимый захватил и изнасиловал жертву. Если, после того как подсудимый был осужден, анализ ДНК исключает возможность, что он был насильником, у прокуроров чудесным образом появляются другие теории. Наша любимая среди них — та, которую Нойфелд назвал теорией „необвиненного ко-эякулятора“: осужденный подсудимый держал женщину, а загадочный второй мужчина ее в это время изнасиловал. Или после нападения подсудимого женщина лежала беспомощная, а другой негодяй „подошел, воспользовался возможностью и изнасиловал ее“, как утверждал один прокурор[42]. Или подсудимый использовал презерватив, а у жертвы был секс по обоюдному согласию с кем-то другим незадолго до того, как она была изнасилована. (Когда дело Роя Крайнера было послано в Техасский апелляционный суд по криминальным делам, главный судья Шерон Келлер сделала заключение, что анализ ДНК, „показавший, что сперма не принадлежала мужчине, обвиненному в изнасиловании, не имеет значения, поскольку, возможно, что он пользовался презервативом“.) Если жертва протестует и говорит, что у нее не было сексуальных контактов в предыдущие три дня, прокуроры выдвигают теорию, опять-таки, после решения суда, что она лжет: она не хочет признаваться, что у нее была тайная сексуальная связь на стороне, потому что эго может рассердить ее мужа или друга.
Подобные самооправдания приводят к двойной трагедии: невинных людей держат в тюрьме, а виновные разгуливают на свободе. Тот же самый анализ ДНК, который помогает оправдать невиновного человека, может быть использован для идентификации виновного, но это случается редко[43]. Из всех случаен необоснованных обвинительных приговоров, которые участникам „Проекта „Невиновность““ удалось отменить, нет ни одного примера, когда полиция после от мены приговора попыталась бы найти настоящего преступника. Полицейские и прокуроры просто полностью закрывают дело, чтобы тихо отправить в небытие это напоминание о допущенной ими ошибке.
Поспешные обвинения
„Если система не может функционировать справедливо, если система не может корректировать свои собственные ошибки и признавать, что она совершает ошибки, и не дает людям возможности исправлять их — то система сломана“.
Адвокат по апелляциям Майм Чарльтон, защищавший Роя Крайнера
У всех граждан есть право ожидать, что в нашей системе криминальной юстиции будут эффективные процедуры не только для обвинения виновных, но и для защиты невиновных, а допущенные ошибки будут с готовностью исправляться. Ученые-правоведы, социологи и психологи предложили различные меры для исправления законодательства и важные процедурные изменения, которые могут уменьшить рыск ложных признаний, ненадежных показаний свидетелей, лжесвидетельства полицейских и т. д.[44]. Но, с нашей точки зрения, главное препятствие, мешающее признавать и корректировать ошибки в системе криминальной юстиции — то, что многие ее участники ослабляют неприятное ощущение диссонанса, отрицая, что такие проблемы существуют.
„Нашей системе нужно создать эту ауру близости к совершенству, уверенности в том, что мы не обвиняем невиновных людей“,
— говорит бывший прокурор Беннетт Гершман»[45]. Польза подобной уверенности для офицеров полиции, детективов и прокуроров заключается в том, что им не приходится мучиться бессонными ночами, беспокоясь о том, что они отправили невиновного человека в тюрьму. Но некоторое количество бессонных ночей было бы для них полезно. Сомнения — это не враг правосудия, а вот неоправданная уверенность ему точно вредит.
Сейчас в профессиональной подготовке большинства офицеров полиции, детективов, судей и адвокатов практически отсутствует информация об их собственных когнитивных ошибках и заблуждениях, о том, как их корректировать в максимально возможной степени, как справиться с диссонансом, который они ощущают, сталкиваясь с доказательствами, не соответствующими их представлениям. Напротив, большую часть их знаний о психологии они получают от самозваных «экспертов», которые, как мы видели, не учат их тому, как делать более точные заключения и оценки, не оставаясь постоянно уверенными в том, будто они всегда делают верные заключения:
«Невиновный человек никогда не признается». «Я видел это своими глазами, значит я прав». «Я всегда могут определить, когда кто-то лжет — я годами делал это».
Однако такая уверенность — это отличительная особенность псевдонауки. Настоящие ученые используют осторожный язык вероятности: «Невиновных людей можно подтолкнуть к признанию в определенных условиях, позвольте мне объяснить, почему я думаю, что признание этого человека, вероятно, было получено под давлением». Вот почему свидетельские показания ученых часто вызывают раздражение. Многие судьи, присяжные и офицеры полиции предпочитают определенность науке. Профессор права Д. Майкл Райсингер и адвокат Джеффри Л. Луп пожаловались на то, что
«современное право практически не использует результаты современных исследований характеристик восприятия, познания, памяти людей, того, как они делают выводы или принимают решения в ситуации неопределенности, ни в правилах и процедурах получения доказательств, ни в том, как судей обучают применять эти правила и процедуры»[46].
Однако обучение, опирающееся на определенность псевдонауки, вместо скромного признания наших когнитивных ошибок и слепых мест, повышает вероятность ошибочных обвинений двумя способами. Во-первых, оно поощряет работников правоохранительной сферы к слишком поспешным выводам. Офицер полиции решает, что подозреваемый виновен, а потом не хочет рассматривать другие возможности. Прокурор округа принимает импульсивное решение выдвинуть обвинение по делу, особенно, если оно сенсационное, не дожидаясь, когда будут собраны все доказательства, она объявляет свое решение в СМИ, а потом ей трудно идти на попятный, когда доказательства по этому делу оказываются сомнительными. Во-вторых, после того как дело рассмотрено, и вынесен обвинительный приговор, судья и прокуроры будут мотивированы отвергать любые последующие доказательства невиновности осужденного.
Противоядие для этих таких характерных для людей ошибок — позаботиться о том, чтобы в полицейских академиях и на факультетах права студенты узнавали о своей подверженности самооправданиям. Им нужно научиться умению разыскивать статистически вероятных подозреваемых (например, ревнивый приятель девушки), не упуская из вида менее вероятных, с точки зрения статистики, подозреваемых, если на них указывают какие-то улики. Им нужно узнать, что, даже если они уверены в том, что всегда могут определить, когда подозреваемый лжет, они могут ошибаться. Им нужно узнать, как и почему невиновных людей можно склонить к признанию в преступлении, которое они не совершали, и как отличать признания, которые, вероятно, правдивы, от тех, которые были получены под давлением[47]. Им следует узнать о том, что популярные методы составления профиля подозреваемых, которые так любят агенты ФБР и авторы сценариев телесериалов, связаны с высоким риском ошибиться из-за так называемой «ошибки подтверждения»: когда детективы и следователи начинают искать характеристики преступления, соответствующие профилю подозреваемого, они также склонны игнорировать те характеристики, которые ему не соответствуют. Короче говоря, им нужно научиться переключаться на других подозреваемых, если оказывается, что их первоначальный выбор был ошибочным.
Профессор права Эндрю Макклург предлагает сделать дополнительный шаг в обучении полицейских. Он давно призывал к использованию принципов анализа когнитивного диссонанса, чтобы удержать высокомотивированных новичков от первого неверного шага и спуске с пирамиды в направлении нечестности, привлекая их внимание к их собственной я-концепции «хороших парней, борющихся с преступностью и насилием». Он предлагает программу обучения честности в решении этических дилемм, в которой курсантам привьют ценности, подчеркивающие, что важно говорить правду и поступать правильно, и эти ценности станут центральным элементом их формирующейся профессиональной идентичности. (Сейчас в большинстве программ обучения полицейских курсантов решению этических проблем отводится всего один вечер или и того меньше — всего пара часов). Поскольку такие ценности на работе быстро вступают в противоречие с принятыми там неформальными нормами —
«Ты не должен выдавать своего коллегу»; «В реальном мире единственно верный способ добиться обвинения — состряпать доказательства»
— Макклург предлагает назначать новичкам опытных и твердо придерживающихся этических принципов партнеров-менторов, как это принято в клубах «Анонимных алкоголиков» (там это называют спонсорством), которые помогут новичкам сохранить стремление к честности.
«Единственная надежда существенно уменьшить ложь в полиции — это превентивный подход, нацеленный на то, чтобы хорошие полицейские не становились плохими», — утверждает он. Теория когнитивного диссонанса предлагает «эффективный, недорогой и неисчерпаемый инструмент для достижения этой цели: собственную я-концепцию полицейского офицера»[48].
Поскольку ни у одного человека, как бы хорошо подготовлен он ни был и какими бы благими ни были его намерения, не может быть полного иммунитета к «ошибке подтверждения» или к своим «слепым зонам», ведущие социологи и психологи, изучавшие ошибочные обвинения, единодушно рекомендуют для страховки делать видеозаписи всех опросов подозреваемых. Сейчас лишь в немногих штатах требуют от полицейских делать электронные записи всех допросов[49]. Полицейские и прокуроры уже давно сопротивляются этому требованию, боясь, как мы подозреваем, скандальных и вызывающих диссонанс открытий, которые могут появиться благодаря видеозаписям. Ральф Лейсер, один из следователей, допрашивавших Брэдли Пейдж, оправдывал свою позицию тем, что «видеозапись зажимает» и «затрудняет обнаружение истины»[50]. Предположим, жаловался он, что опрос продолжается 10 часов. Адвокат обвиняемого заставит присяжных слушать все 10 часов, вместо пятнадцатиминутного признания подозреваемого, в результате информационная перегрузка запутает их. Однако в деле Пейджа доводы прокурора в значительной степени опирались на фрагменты аудиозаписи опроса подозреваемого, которые отсутствовали. Лейсер признал, что он выключил диктофон, перед тем как произнес те слова, которые убедили Пейджа признаться. По словам Пейджа, в этот момент Лейсер попросил его представить, как он мог бы убить свою подругу. (Это еще один маневр, рекомендованный создателями методики Рейда). Пейдж думал, что его попросили придумать воображаемый сценарий, чтобы помочь полиции, и он был поражен, когда Лейсер использовал его слова как полноценное признание. Присяжные не получили полной информации: был опущен вопрос Лейсера, вызвавший так называемое «признание».
В реальности, в тех штатах, где требуют вести видеозапись допросов, полицейским и следователям это понравилось. «Центр ошибочных обвинений» провел опрос в 238 правоохранительных организациях, которые сейчас записывают на видео все допросы лиц, подозреваемых в тяжких преступлениях, и обнаружил, что почти все офицеры полиции, с которыми они говорили, с энтузиазмом поддерживали эту практику. Видеозаписи устраняют проблему изменения своих показаний подозреваемыми и убеждают присяжных в том, что признание было получено честным и законным путем. И, конечно, они позволяют независимым экспертам и присяжным оценивать использовавшиеся следствием приемы и определить, применялись ли в каких-то из них обман или принуждение[51].
Подобные реформы постепенно внедряются в Канаде и Великобритании, где также вводятся процедуры, цель которых свести к минимуму ошибочные обвинения. Но, по мнению правоведов и социологов Дебры Дейвис и Ричард Лио, американской системе правоохранительных органов мешают устоявшиеся традиции, включая приверженность к методике Рейда и другим сходным процедурам, причем, их работники полностью отрицают, что подобные приемы могут приводить и, действительно, приводят к ложным признаниям и ошибочным обвинениям[52]. Нежелание американской системы криминальной юстиции признавать свои ошибки усугубляет несправедливости, которые в ней происходят. Большинство штатов не делают абсолютно ничего для людей, оправданных, после того как их неправомерно осудили. Они не предоставляют им никакой компенсации за потерянные годы жизни и доходы. Они даже не приносят им официальных извинений. Как это ни жестоко, они даже часто не снимают судимость с оправданных людей, и поэтому им бывает трудно снять жилье или поступить на работу.
С точки зрения теории диссонанса, мы можем понять, почему с жертвами ошибочных обвинений так жестоко обходятся. Эта жестокость прямо пропорционально жесткости и негибкости системы. Если вы знаете, что ошибки неизбежны, для вас не окажется сюрпризом, когда они случатся, и вы предусмотрите меры, чтобы их исправить. Но, если вы не признаетесь себе или другим, что ошибки случаются, тогда каждый ошибочно осужденный человек — это очевидное и унизительное доказательство того, как вы неправы. Извиняться перед ними? Платить им компенсацию? Что за абсурдные предложения. Они ускользнули, используя технические лазейки. Этой технической лазейкой был анализ ДНК? Что же, значит, они виновны еще в чем-то.
И все же, время от времени честный мужчина или женщина преодолевает естественное побуждение пожертвовать истиной и прибегнуть к самооправданиям: офицер полиции сообщает о коррупции; детектив начинает новое расследования дела, которое считалось уже законченным; окружной прокурор признает судебную ошибку. Томас Вейнс, теперь работающий адвокатом в городе Меррилвилле, штат Индиана, 13 лет был прокурором.
«Я тогда не стеснялся требовать смертного приговора, — написал он. — Когда преступники виновны, они заслуживают наказания[53]». Но Вейнс узнал о том, что допускаются ошибки, и что он сам их тоже допускал.
«Мне стало известно, что мужчина по имени Ларри Мейес, добился для него обвинительного приговора, провел в тюрьме более 20 лет за изнасилование, которого он не совершал. Как мы узнали об этом? Анализ ДНК… Через 20 лет, когда он потребовал провести анализ ДНК для вещественных доказательств по этому делу об изнасиловании, я помогал найти эти старые улики, убежденный, что современные тесты положат конец его постоянным заявлениям о своей невиновности. Но это он был прав, а я заблуждался.
Неопровержимые факты оказались сильнее, чем субъективные мнения и убеждения, так и должно быть. Это было отрезвляющим уроком, и никакие легкодоступные оправдания (я только выполнял свою работу, это присяжные вынесли ему приговор, апелляционный суд поддержал обвинение) не могут уменьшить груз ответственности, если не юридической, то, по крайней мере, моральной, которую влечет за собой осуждение невиновного человека».
Глава 5 в «Ошибки, которые были сделаны (но не мной)«. Почему мы оправдываем глупые убеждения, плохие решения и пагубные действия
«Антисталинизм левых» как самооговор под давлением
Наподобие полицейских, следователей и прокуроров в публичном пространстве работают «свободные СМИ», промывая мозги в пользу капитализма. Их давлением троцкисты и т.п. левачки раньше в западном мире, теперь и у нас побуждаются к специфическому «антисталинизму», при котором Советский Союз оказывается «хуже» и «репрессивней» одновременных с ним буржуазных демократий. Хотя с точки зрения заявляемых им ценностей (бесклассовой общество, социальное равенство, эмансипация женщин, евреев, отсталых народов и др. угнетённых групп), да и просто статистики (социального подъёма или, напротив, репрессий) это мнение эмпирически неверно — если сравнивать по правилам логики, на одном основании.
Скажем, соотнося (социальные достижения и качество жизни) лучшие категории населения – выдвиженцев, ударников и пр. у нас с выигравшим от развития слоем среднего класса, потеснившем традиционные «средние слои» в буржуазных демократиях (о них см. выдержку из «Нового духа капитализма», PS тут). Или, наоборот, тех, по кому проехался этот прогресс: зеков Гулага тут и колониальных рабов с бедняками там; в буржуазных демократиях collateral damage развития оказывается существенно шире, само развитие – намного жесточей, а выигрывает от него сугубое меньшинство.
Поэтому т.н. антисталинизм левых везде означает их логическую уязвимость, зависимость и ущербность (где это, конечно, не сознательное предательство). Что сполна показала история с повешением чучела «литературного власовца» по образцу сделанного раньше во Владивостоке. Акция откровенно дурацкая, но отражающая vox populi, причём достаточно давний: неслучайно либеральной прессе здесь ничего не «понравилось» — поскольку директор «музея Гулага» написал на акционистов заяву в полицию, и МК призывает сажать за обиженного Солжа. Если бы они чувствовали общественную поддержку, то в связи с акцией к ней бы и апеллировали, мол, коммунисты «оправдывают репрессии», «ещё раз показывают своё людоедство».
К этим доводам обратились зашедшиеся в негодовании «антисталинистские левые» вместе с антикоммунистическими и даже отдельными умными прагматиками, сочувствующими левой идее — мол, эти акции её дискредитируют. Нет, это мнение, как самооговор под давлением, в данном случае правой реакции — отличный пример когнитивного диссонанса по теме статьи. В действительности всё ровно наоборот: акция транслирует «Солж лжив и музей Гулага» лжив», не поддавайтесь их пропаганде», что сущая правда, почему так все «антисталинисты» и возбудились. См. обсуждения здесь и здесь.
Таких акций нужно больше (и умнее), чтобы сломать стереотип общественного сознания «СССР=тоталитаризм-почти фашизм», замешанный как раз на описанном мной «антисталинизме». Скажем, на этом духовном выделении «Новой Газеты»: в каждой из кратких характеристик ненавидимых большевиков сунута не просто ложь, но давно разоблачённая ложь, вроде «национализации женщин». Всё вместе называется «Правда Гулага», покруче замесом чем выдумки Солжа — и текст не подписан.
И пока этот душевный гной не вскрыт и не выпущен, с санированием фурункула научными данными о жизни сталинского СССР с обоих сторон медали, чтобы люди соотносили плюсы и минусы, вместо мифов от изучаемого в школе «классика», ни у каких левых — даже самых бледно-розовых — перспектив не будет заведомо.Без слома антисоветского консенсуса, замешанного на «антисталинизме», и подпитываемого «музеями Гулага», не будет никакого конструктива, увы, даже самого бледно-розового. И акция — не «подкрепление антикоммунистических мифов», как говорят «антисталинистские левые», а опровержение — вызов со стороны меньшинства уверенного в своей правоте, заставляет пипл задуматься и потихоньку перевоспитывает (действие основано на т.н. «влиянии меньшинства«). Священных коров (каков Солж для всех наших буржуафилов, и власти, и «оппозиции») надо дискредитировать, показывая что это просто жвачные животные. Так что больше надо таких акций (но умнее).
«А леволибералам, к слову, следует задуматься, как же это получается, что у людей, которых вы упорно продолжаете называть демократами и «либералами в американском смысле» в иконах числится монархист, националист, антисемит и просто лживая мразь Солж.»
Я, как антисталинист, отнюдь не собирающийся прощать «вождю и учителю» ни убитых коммунистов/симпатиков революции, ни того «прагматизма», что кое-где прорастал в черносотенство в 48-53 гг., считаю, что повешение Солжа перед музеем Гулага — дело хорошее, Почему? Коммунистам и даже «левым» надо быть со своим народом: он же давно просёк, что про сталинский режим и, шире СССР, лгут, чтобы лишить пипл последних остатков того, что мы имели в СССР и что делало жизнь достойной и человеческой — в отличье от нынешней мерзости. Рост симпатий к Сталину, к плановой экономике, к Ленину идёт именно на этой основе — и левым надо тут надо к массам присоединяться и эти настроения использовать — а не клеветать на них, как гг.кудюкины и пр. «левые антисталинисты».
Солж и Гулаг тут — символы того идеологического брэйнвошинга, который идёт уже 30 лет как. Ему надо противостоять, а не прогибаться под него. Коль мы хотим быть сознательнее народа, противостоящего этой заразе пассивно или с уклоном вправо, надо противостоять этому лучше «среднего человека»: рассказывая что Старикова и пр. «консерваторов» — «националистов» т.Сталин расстрелял бы по понятным причинам; что СССР, в противоположность РКМП и РФ, был прогрессорским, а не традиционалистским обществом; что Солженицын и возносимый им Власов — просто агенты врага в двух последовательных (и во многом преемственных в кадрах с инструментарием) попытках уничтожить СССР, «холодной» и «горячей» соответственно — что было понятно даже такой жертве режима, как Варлам Шаламов и т.д., и т.п.
Тем более что либералы, националисты и «демократические левые» немедленно находят консенсус на почве «антисталинизма», из которого оргвыводом оказывается десоветизация-декоммунизация, что мы только что видели на Украине, как раньше в Восточной Европе с Прибалтикой, с превознесением местных фашистов (у нас — Власова). Т.е. под соусом «антисталинизма» реализуется правило «Чем дальше от Ленина, тем ближе к Гитлеру» и больше грабиловки ширнармасс. Это борьба не со Сталиным, а с коммунизмом любой разновидности, остатками советских идеалов и советской социалки.
Как верно пишет коллега: Единственное, что реабилитирует могильщика революции товарища Сталина: непреходящая ненависть к нему либералов, демшизы, и прочей сволочи, активничавшей в контрреволюцию 1989-1991 годов. Но она же и обманывает: рыночно – ориентированные массы склонны внешние признаки принимать за суть, отождествлять означающее и означаемое, лишь бы работало на их пропаганду.
«Народ в нём Революцию хоронит, хоть, может, он того не заслужил». Тогда не заслужил, сейчас заслуживает – благодаря усилиям наших буржуафилов. (link)
Т.ч. у коммунистов нет других союзников, кроме просоветских / просталинских настроений «средних людей». А когда будет социализм — расставим все точки над «i», тем более что тут чего-то скрывать или стесняться не надо. Повторю, что при всех своих минусах, глупостях или преступлениях даже сталинский режим (не говоря о последующих, не говоря о ГДР, Кубе и других странах комблока), решал задачи индустриализации/урбанизации/модернизации гуманней, с меньшими человеческими жертвами и большими плюсами для трудящегося большинства, чем буржуазные демократии в те же годы. Даже с учётом цивилизационной отсталости России от развитых стран на 100 лет, как говорил И.В.Сталин, по ряду параметров — на 200-300, во многом определившей репрессивные практики и готовность общества им следовать — процентов так на 90.
Примечания
[1]Скажем, американских студенческих братствах, очень напоминающих этим мужские союзы в предклассовом обществе. Там вроде все равны, но условия классового угнетения уже сложились, почему угнетённую группу – женщин или бедняков, неспособных платить внушительные взносы в союз – надо неформально «нагнуть», что и делают долгом и поддержанием страха перед сверхъестественным. Прим.публикатора.
[2]Читавшая это коллега задала важный вопрос: чего это я всё про США, у нас как? В СССР, где большинство трудящихся было аналогом «среднего класса», чувствовали себя уверенно в жизни, хозяевами своей страны, что «моя милиция меня бережёт», это было возможно, хотя и менее вероятно чем с представителями «чистой публики» в США — из-за отсутствия фирм, коммерчески заинтересованных в распространении подобных методик добывания признаний. Скажем, так было вырвано признание нескольких заподозренных в долгом деле «витебского маньяка». С введением рынка большая часть россиян опустилась до уровня «белых бедняков», а то и латиноамериканцев, однако и органам стало не нужно давить для добычи сколько-нибудь правдоподобных признаний. Что ни сочини, суд всё равно проштампует, поскольку в РФ он давно уже отсутствует как орган, способный проверить работу следствия/прокуратуры и завернуть очевидный брак. Прим.публикатора.
[3] А левачки до сих пор рассказывают, что он не расист. Причём тогда он не был политиком, вынужденным заигрывать с расистскими представлениями, это было его личное убеждение. Прим.публикатора.
[4]Рейес признался в убийстве и изнасиловании, потому что случайно встретил в тюрьме одного из осужденных по этому делу Хэри Вайса и, очевидно, почувствовал себя виновным в том, что тот незаслуженно попал в тюрьму. Позже он сообщил тюремным властям, что совершил преступление, за которое ошибочно осудили других, и было назначено повторное расследование. Steven A. Drizin and Richard A. I.eo (2004), «The Problem of False Confessions in the Post-DNA World», North Carolina Law Review, 82. pp. 891-1008; p. 899.
[5]СМ.: www.innocenceproject.org and Barry Scheck, Peter Neufeld, and Jim Dwyer (2000), «Actual Innocence». New York: Doubleday..
[6]Выделено в оригинале. Samuel R. Gross et al. (2004), «Exonerations in the United States, 1989 through 2003», http://www.mindfully.org/Reform/2004Prison-Exonerations-Gross19apr04.htm. Это исследование было потом опубликовано в юридическом журнале: Samuel R. Gross, Kristen Jacoby, Daniel J. Matheson, Nicholas Montgomery, and Sujata Patil (2005), «Exonerations in the United States, 1989 through 2003», Journal of Criminal Law and Criminology, 95, pp. 523ff.
[7]Процитировано в: Richard Jerome, «Suspect Confessions», The New York Times Magazine, August 13, 1995, pp. 28–31; цитата: с. 31.
[8] Daniel S. Medwed (2004), «The Zeal Deal: Prosecutorial Resistance to Post-Conviction Claims of Innocence», Boston University Law Review, 84, p. 125. Медвед анализирует институциональную культуру многих офисов прокуроров, затрудняющую дня прокуроров признание и исправление своих ошибок.
[9]Joshua Marquis, «The Innocent and the Shammed», The New York Times op-ed, January 26, 2006.
[10]«Harmful Error: Investigating America’s Local Prosecutors», публикация Центра общественной честности, лето 2003 г., сообщает о проведенном ими анализе 11 452 случаев апелляций, поданных судьями против нарушений, допущенных прокурорами, по всей стране. Центр дал Маркису возможность отреагировать на «эти несколько случаев», «правда в том, что…», с. 110. http://www. publicintegrity.org.
[11]Цитируется в: Mike Miner, «Why Can’t They Admit They Were Wrong?», Chicago Reader, August 1, 2003.
[12] Основная проблема с анализом стресса по тембру заключается в том, что вмешивается «ошибка подтверждения». Если вы думаете, что подозреваемый виновен, вы интерпретируете микротреморы как признак того, что он лжет, а, если вы думаете, что он невиновен — то не обращаете на них внимания. Библиографию и обзор некоторых исследований можно найти в Интернете по адресу: http://www.polygraph.org/voicestress.htm.
[13]Процитировано в: Paul Е. Tracy (with the collaboration of Ralph Claytor and Chris McDonough) (2003), «Who Killed Stephanie Crowe?», Dallas, TX: Brown Books, p. 334.
[14]Рассказ об участии в деле Вика Калоки, включая цитаты из его высказываний, можно найти в истории, написанной репортерами- расследователями Вилкенсом и Соером: John Wilkens and Mark Sauer, «A Badge of Courage: In the Crowe Case, This Cop Ignored the Politics while Pursuing Justice», The San Diego Union-Tribune, July 11, 2004. Друлинер цитируется Вилкенсом и Соером в «Tuite Found Guilty of Manslaughter», The San Diego Union-Tribune, May 27,2004.
[15] Deanna Kuhn, Michael Weinstock, and Robin Flaton (1994), «How Well Do Jurors Reason? Competence Dimensions of Individual Variation in a Juror Reasoning Task», Psychological Science, 5, pp. 289–296.
[16]Don DeNevi and John H. Campbell (2004), «Into the Minds of Madmen: How the FBI’s Behavioral Science Unit Revolutionized Crime Investigation». Amherst, NY: Prometheus Books, p. 33. Эта книга неумышленно — исследование ненаучного обучения отделения бихевиоризма ФБР.
[17]Процитировано в: Tracy, «Who Killed Stephanie Crowe?», p. 184; примеч. 11.
[18]Цитируется CBS’s «Eye to Eye» with Connie Chung (1994).
[19] Вводный комментарий Стивена Драйзина: Steven Drizin, «Prosecutors Won’t Oppose Tankleft’s Hearing», The New York Times on the Web, May 13, 2004. «>
[20]Edward Humes (1999), «Mean Justice». New York: Pocket Books, p. 181.
[21]Andrew J. McClurg (1999), «Good Cop, Bad Cop: Using Cognitive Dissonance Theory to Reduce Police Lying», U.C. Davis Law Review, pp. 389–453. Первая цитата, с. 394; вторая — с. 429.
[22]Это оправдание настолько обычно, что оно породило новый термин: «dropsy» testimony (буквально «поднятые с пола доказательства»). Дэвид Хейлбронер, в прошлом помощник окружного прокурора в Нью-Йорке, писал: «В делах с „поднятыми с пола доказательствами“ офицеры полиции оправдывают обыск с помощью старейшего из приемов: они лгут относительно фактов. Когда я выходил из-за угла, я увидел, как подсудимый уронил наркотики на тротуар, поэтому я арестовал его. Это старая уловка, известная всем в системе правосудия. Один почтенный федеральный судья еще много лет назад жаловался, что он читал подобные показания в таком большом количестве дел, что теперь верит: они не имеют никакого отношения к закону». David Heilbroner (1990), «Rough Justice: Days and Nights of a Young D.A.» New York: Pantheon, p. 29.
[23]McClurg, «Good Cop, Bad Cop», примеч. 19, p. 391, цитируется по отчету City of New York Commission to Investigate Allegations of Police Corruption and the Anti-Corruption Procedures of the Police Department: Commission Report 36 (1994), обычно на него ссылаются как на «Отчет комиссии Моллена».
[24]Norm Stamper (2005), «Breaking Rank: A Top Cop’s Expose of the Dark Side of American Policing». New York: Nation Books. CM. также: «Let Those Dopers Be», Stamper’s op-ed essay for the Los Angeles Times, October 16, 2005.
[25]Цитируется в: McClurg, «Good Cop, Bad Cop», примеч. 19, pp. 413, 415.
[26]В округе Саффолк, Нью-Йорк в сентябре 1988 г. детектив из отдела убийств К. Джеймс Маккриди был вызван в дом, где он нашел тело Арлин Танклеф, которой были нанесены ножевые раны и вызвавшие смерть побои. Ее муж, Сеймур также подвергся жестокому нападению. (Он умер через несколько недель). Через несколько часов Маккриди заявил, что он нашел убийцу: сына этих супругов, Мартина, которому было 17 лет. Во время допроса Маккриди постоянно повторял Мартину, что он знает, будто тот убил родителей, поскольку его отец ненадолго вышел из комы и сообщил полиции, что Мартин напал на него. Это была ложь.
«Я использовал уловку и обман, — говорил Маккриди. — Я не думал, что он сделал это. Я знал, что он это сделал».
Подросток в итоге сознался, что он мог убить своих родителей, временно потеряв память. Когда прибыл семейный адвокат, Мартин Танклеф немедленно отказался от своего признания и так и не подписал свои показания, но этого оказалось достаточно, чтобы его обвинить. Мартина приговорили к 50 годам судебного заключения. См.: Bruce Lambert, «Convicted of Killing His Parents, but Calling a Detective the Real Bad Guy», The New York Times, April 4, 2004.
[27]Термин «защита Твинки» (Twinkie defense) появился в США и 1979 г., когда под влиянием показаний психиатрии, экспертов со стороны защиты, будто обвиняемый в преднамеренном убийстве был подвержен частым и неконтролируемым сменам настроения, потому что ел слишком много сладкого (в том числе маленькие пирожные с кремом под названием Twinkie), и поэтому не вполне осознавал свои действия, привели к смягчению приговора. Это вызвало массовые возмущения и негодование. — Примеч. пер.
[28]Цитируется в: Tracy, «Who Killed Stephanie Crowe?», p. 175; примеч. 11.
[29]Fred E. lnbau, John E. Reid, Joseph P. Buckley, and Brian C. Jayne (2001), «Criminal Interrogation and Confessions» (4th ed.). Gaithersburg, MD: Aspen Publishers, p. 212.
[30]Inbau et al., p. 429.
[31]Один из наиболее тщательных анализов метода Рейда и руководства к нему Инбау с соавторами — это: Deborah Davis and William T. O’Donohue (2004), «The Road to Perdition: ‘Extreme Influence’ Tactics in the Interrogation Room», in W.T. O’Donohue и E. Levensky (eds.), «Handbook of Forensic Psychology», pp. 897–996. New York: Elsevier Academic Press.
[32]Louis C. Senese (2005), «Anatomy of Interrogation Themes: The Reid Technique of Interviewing». Chicago: John E. Reid Sc Associates, p. 32.
[33]Цитируется также в: Saul Kassin (2005), «On the Psychology of Confessions: Does Innocence Put Innocents at Risk?», American Psychologist, 60, pp. 215–228.
[34]Saul M. Kassin and Christina T. Fong (1999), «I’m Innocent! Effects of Training on Judgments of Truth and Deception in the Interrogation Room», Law and Human Behavior, 23, pp. 499–516. В другом исследовании Кассин с коллегами использовали заключенных, которым давалась инструкция или полностью признаться в совершенном ими в реальности преступлении, или сделать фальшивое признание в преступлении, совершенном на самом деле другим заключенным. Студенты и полицейские офицеры оценивали видеозаписи этих признаний. В целом правильность оценок не превышала случайную вероятность, но полицейские были более уверены в своих выводах. См.: Saul М. Kassin, Christian A. Meissner, and Rebecca J. Norwick (2005), «’I’d know a false confession if I saw one': A Comparative Study of College Students and Police Investigators», Law and Human Behavior, 29, pp. 211–227.
[35]Вот почему невиновные люди более склонны, чем виновные, отказываться от своего права сохранять молчание, пока не прибудет их адвокат. В одном из экспериментов Сола Кассина 72 участника, которые были виновны или невиновны в краже 100 $, допрашивались мужчиной-детективом. Его стиль поведения мог быть нейтральным, сочувственным или враждебным, и он пытался уговорить участников отказаться от их права не давать показания. Те, кто был невиновен, соглашались гораздо чаще, чем виновные — 81 % против 36 %. Две трети невиновных подозреваемых подписали документ о готовности давать показания, даже если детектив вел себя враждебно и кричал на них: «Я знаю, что вы это сделали, я не хочу слушать никакую вашу ложь!». Потом они объяснили, что причина их согласия заключалась в том, что только виновным людям нужен адвокат, а они ничего плохого не сделали и им нечего скрывать. «Похоже, — с сожалением заключили экспериментаторы, — что люди наивно верят, будто их невиновность неминуемо приведет к их освобождению». Saul М. Kassin and Rebecca J. Norvvick (2004), «Why People Waive Their Miranda Rights: The Power of Innocence», Law and Human Behavior, 28, pp. 211–221.
[36]Drizin and Leo, «The Problem of False Confessions in the Post-DNA World», p. 948; примеч. 2.
[37]Например, одному из подростков, Хэри Вайсу, сказали, что женщину-джоггера ударили по голове «очень тяжелым предметом», а потом спросили: «Ее ударили камнем или кирпичом?». Вайс сначала сказал, что камнем, а через несколько минут — что это был кирпич. Он сказал, что один из подростков достал нож и разрезал футболку женщины — это была ложь, так как на футболке не было ножевых разрезов. «False Confessions and the Jogger Case», The New York Times op-ed, November 1, 2002.
[38]New York V. Kharey Wise, Kevin Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam, and Raymond Sarttana: Affirmation in response to morion to vacate judgment of conviction, Indictment № 4762/89, by Assistant District Attorney Nancy Ryan, December 5, 2002. Цитата на с. 46.
[39]Adam Liptak, «Prosecutors Fight DNA Use for Exoneration», The New York Times, August 29,2003. См. также: Daniel Medwed, «The Zeal Deal», for a review of the evidence of prosecutorial resistance to reopening DNA cases; примеч. 6.
[40]Цитируется в: Sara Rimer, «Convict’s DNA Sways Labs, Nor a Determined Prosecutor», The New York Times, February 6, 2002.
[41]«The Case for Innocence», a Frontline special for PBS by Ofra Bikel, first aired October 31, 2000. Стенограмма и информация доступны на вебсайте PBS Frontline Web site at http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/case/etc/tapes.html.
[42]Drizin and Leo, «The Problem of False Confessions in the Post-DNA World», p. 928, примеч. 200 на этой странице; примеч. 2.
[43]В знаменитом деле в Северной Каролине, в котором жертва неправильно опознала невиновного мужчину как насильника, анализ ДНК в итоге позволил найти истинного виновного, см.: James М. Doyle (2005), «True Witness: Cops, Courts, Science, and the Battle Against Misidentification». New York: Palgrave Macmillan. Иногда «безнадежное дело» разрешается с помощью анализа ДНК. В Лос-Анджелесе в 2004 г. детективы, работавшие в недавно созданной группе расследования «безнадежных дел», получили образец спермы с трупа женщины, убитой и изнасилованной год назад, и сравнили его с образцами из базы данных ДНК осужденных за тяжкие насильственные преступления. Он совпал с ДНК Честера Тернера, уже отбывавшего тюремный срок за изнасилование. Детективы продолжили отсылать другие образцы ДНК, относящиеся к неразрешенным делам, в лабораторию, и каждый месяц один из образцов указывал на Тернера. Вскоре они связали его с 12 случаями убийства бедных темнокожих проституток.
На фоне всеобщего ликования по поводу поимки серийного убийцы окружной прокурор Стив Кули тихо освободил Дэвида Джонса, умственно отсталого уборщика, который провел 9 лет в тюрьме за три убийства из совершенных Тернером. Если бы Тернер убил только этих трех женщин, он бы продолжал разгуливать на свободе, а Джонс все еще сидел бы в тюрьме. Но, поскольку Тернер убил 9 других женщин, и эти дела оставались нерешенными, Джонс посчастливилось, что за них взялась новая группа расследования «безнадежных дел». Правосудие по отношению к нему было «побочным продуктом» другого расследования. Ни у кого, даже у детективов, которые не смогли раскрыть эти убийства, пока Джонс сидел в тюрьме долгие девять лет, не оказалось стимула сравнить ДНК Джонса с образцами ДНК, обнаруженными на других жертвах. Но у специальной группы такая мотивация была (поскольку группа была специально создана для расследования «безнадежных дел»), и это было единственной причиной того, что правосудие восторжествовало, а Джонс был освобожден.
[44]Deborah Davis and Richard Leo (2006), «Strategies for Preventing False Confessions and their Consequences», in M. R. Kebbell and G. M. Davies (eds.), «Practical Psychology for Forensic Investigations and Prosecutions». Chichester, England: Wiley, pp. 121–149. CM. также статьи Saundra D. Westervelt and John A. Humphrey (eds.) (2001), «Wrongly Convicted: Perspectives on Failed Justice». New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
[45]Цитировалось в: PBS show Frontline, «The Case for Innocence», October 31, 2000.
[46]D. Michael Risinger and Jeffrey L. Loop (2002, November), «Three Card Monte, Monty Hall, Modus Operandi and ‘Offender Profiling': Some Lessons of Modern Cognitive Science for the Law of Evidence», Cardozo Law Review, 24, p. 193.
[47]Davis and Leo, «Strategies for Preventing False Confessions…», p. 145; примеч. 41.
[48]McClurg, «Good Cop, Bad Cop»; примеч. 19. В этой статье Макклург предлагает использовать когнитивный диссонанс для сокращения случаев лжи в полиции.
[49]Saul М. Kassin and Gisli Н. Gudjonsson (2004), «The Psychology of Confession Evidence: A Review of the Literature and Issues», особенно раздел «Videotaping Interrogations: A Policy Whose Time Has Come», Psychological Science in the Public Interest, 5, pp. 33–67. См. также: Drizin and Leo, «The Problem of False Confessions…», примеч. 2; Davis and O’Donohue, «The Road to Perdition», примеч. 28.
[50]Цитируется в: Jerome, «Suspect Confessions», p. 31; примеч. 5.
[51]Thomas P. Sullivan (2004), «Police Experiences with Recording Custodial Interrogations». Это исследование с обильными ссылками можно найти в Интернете на сайте http://www.law.northwestern.edu/wrongfulconvictions/Causes/custodiallnterrogations.htm. Однако последующие исследования показали, что угол, под которым установлена камера, может влиять на выводы наблюдателей, особенно, если камера сфокусирована исключительно на подозреваемом и не показывает интервьюера(ов). G. Daniel Lassiter, Andrew L. Geers, Ian M. Handley, Paul E. Weiland, and Patrick j. Munhall (2002), «Videotaped Interrogations and Confessions: A Simple Change in Camera Perspective Alters Verdicts in Simulated Trials», Journal of Applied Psychology, 87, pp. 867–874.
[52]Davis and Leo, «Strategies for Preventing False Confessions…», p. 145; примеч. 41. В Канаде руководители федеральных/провинциальных/территориальных прокурорских комитетов the Federal/Provincial/Territorial Heads of Prosecutions Committee создали рабочую группу по предотвращению судебных ошибок.
[53]Thomas Vanes, «Let DNA Close Door on Doubt in Murder Cases», the Los Angeles Times op-ed, July 28, 2003.