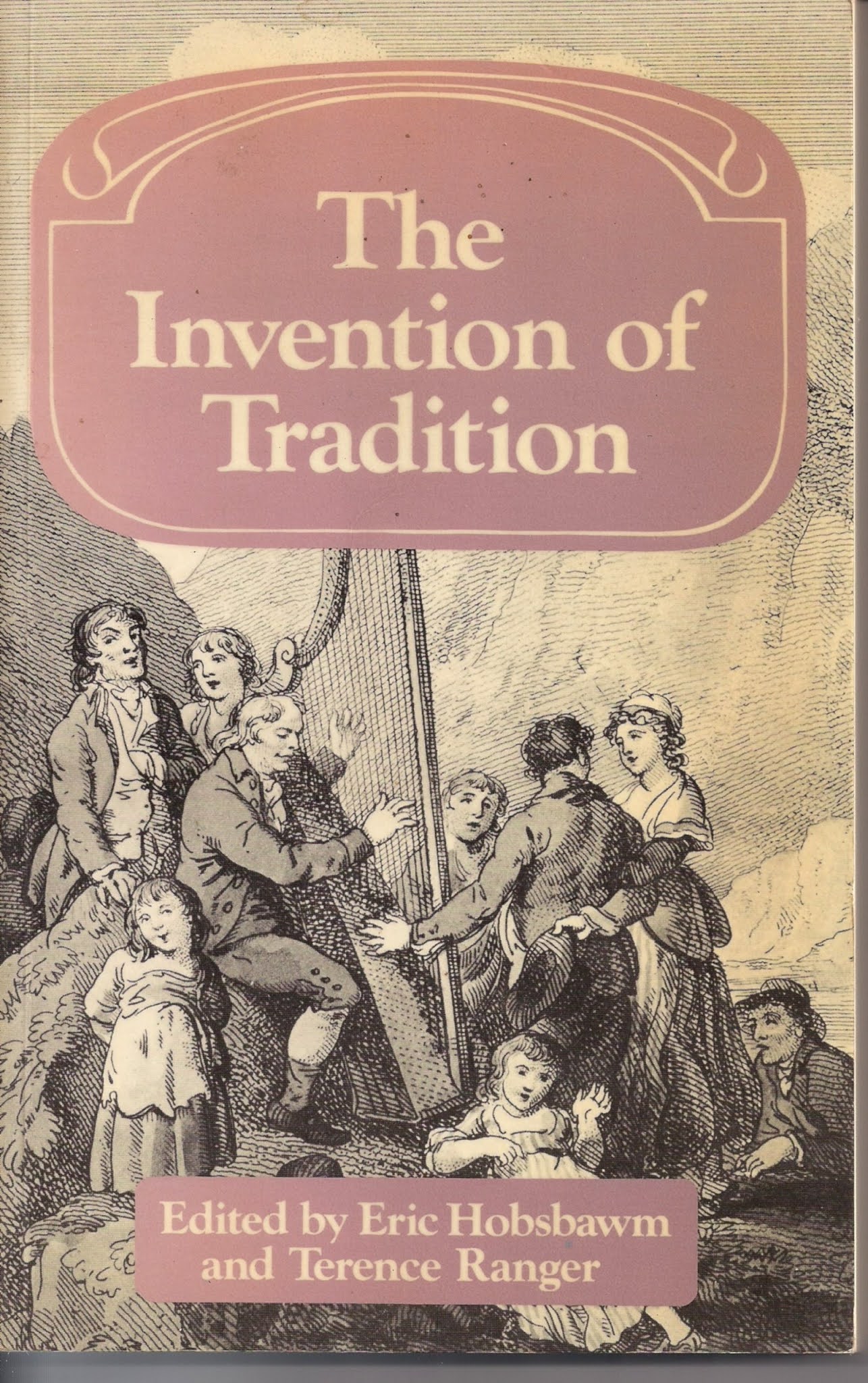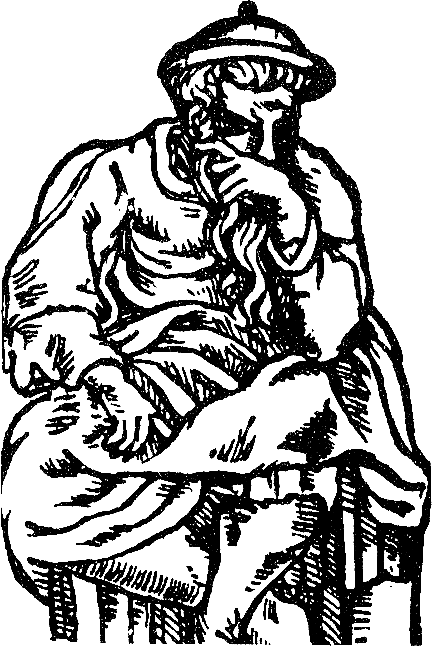Классическая статья Эрика Хобсбаума про изобретение традиции — ключевое понятие социальной истории. Она, как и эволюция, рождает новое во всех аспектах социальной жизни: институтах, практиках, формах взаимодействия людей в повседневности и политике и эта новизна немедленно обзаводится собственной ритуальной сферой: символами, площадками, значимыми предметами и пр. Все они выступают регуляторами вновь возникшей активности, что показывается на разных примерах: новаций политической жизни и поведения масс, максимальных в период конца 19-середины 20 века, еврейства по матери и традиций горцев Шотландии. Важно, что всю эту разнообразную новизну её создатели рекламируют и внедряют как нечто существовавшее от века, как продолжение давней и почтенной традиции, максимально способствуют забыванию, что это новация. Статья Хобсбаума вызвала огромный подъём исследований «изобретения традиций», показав, что 99% практик, обычаев, институций и пр., рекламируемых как существующие от века, искони присущие данной стране нации и религии, представляют собой сугубый новодел, «изобретённую традицию». Понятно, что эта концепция, созданная марксистской социологией, безумно раздражает консерваторов и прочих правых, которые её раз за разом пытаются опровергать — и неудачно.
Эрик Хобсбаум
Мало что выглядит более древним, уходящим в незапамятное прошлое, чем тот пышный церемониал, которым окружает себя британская монархия в своих публичных проявлениях. Между тем, как доказывает специальная глава в нашей книге, в своем нынешнем виде церемониал этот сложился в конце XIX и в XX веке. «Традиции», которые кажутся старыми или претендуют на то, что они старые, часто оказываются совсем недавнего происхождения и нередко — изобретенными. Кто знаком с жизнью колледжей старинных английских университетов, тому нетрудно представить себе подобные «традиции». Это «традиции» локальные, местного масштаба, хотя благодаря современным средствам массовой информации некоторые из них, например, ежегодный фестиваль «Девяти рождественских проповедей и гимнов», устраиваемый в сочельник в капелле Королевского колледжа в Кембридже, становятся широко известными. Наблюдения над ними и послужили отправной точкой для участников конференции, организованной историческим журналом «Прошлое и настоящее», а материалы конференции, в свою очередь, составили основу настоящей книги.
Термин «изобретенная традиция» используется здесь в широком, но достаточно точном смысле. Им охватываются как «традиции» действительно изобретенные, сконструированные и формально институционализированные, так и те, появление которых проследить труднее, но которые тем не менее быстро утверждались в течение короткого, поддающегося датировке, периода времени, исчисляемого, пожалуй, всего несколькими годами. Рождественское радиообращение короля или королевы, введенное в практику в 1932 году, представляет пример традиций первого рода; появление и развитие ритуала, связанного с финалом кубковых игр в Британском футбольном союзе, — пример второго. Очевидно, что не все такие традиции превращаются в постоянные; но нас в первую очередь интересуют не их шансы на выживание, а их возникновение и становление.
«Изобретенная традиция» — это совокупность общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с помощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели — повторение. Последнее автоматически предполагает преемственность во времени. И действительно, всюду, где это возможно, такие практики стараются обосновать свою связь с подходящим историческим периодом. Яркий пример — сознательный выбор готического стиля при перестройке здания британского парламента в XIX веке или принятое после Второй мировой войны не менее сознательное решение восстановить зал заседаний парламента в основном в соответствии с его прежним планом. Историческое прошлое, к которому «подсоединяют» новую традицию, необязательно должно быть очень протяженным, уходящим во мглу времен. У революций и «прогрессивных движений», по определению порывающих с прошлым, есть свое собственное приличествующее им прошлое. Правда, оно может обрываться на определенной дате, такой, как 1789 год.
Специфика «изобретенных» традиций заключается в том, что их связь с историческим прошлым по большей части фиктивная. Говоря коротко, эти традиции представляют собой ответ на новую ситуацию в форме отсылки к ситуации старой. Или же они создают себе прошлое путем их как бы обязательного повторения. Тут виден контраст между постоянными изменениями и инновациями в современном мире и попыткой структурировать, как минимум, часть социальной жизни в этом мире как нечто неменяющееся и неизменное. Это и делает «изобретение традиции» столь интересным предметом для историков, занимающихся изучением двух последних столетий.
Понимаемая таким образом «традиция» должна быть четко отделена от «обычая», господствующего в так называемых традиционных обществах.
Цель и отличительная характеристика «традиций», в том числе и изобретенных, — это неизменность. Прошлое, на которое они ссылаются, налагает на людей фиксированные (как правило, формализованные) практики, например ту же практику повторения. «Обычай» традиционных обществ имеет двойную функцию: он и мотор, и маховое колесо. Он не препятствует изменениям и нововведениям до тех пор, пока они выглядят сопоставимыми с прежними изменениями и нововведениями или идентичными им. Требование соответствия тому, что уже было, сильно их ограничивает; но оно же позволяет давать всякому желаемому изменению (или, наоборот, сопротивлению новшествам) санкцию прецедента, социальной преемственности, естественного закона истории. Исследователи крестьянских движений знают, что претензии той или иной деревни на право пользования общинными землями «по обычаю, действующему с незапамятных времен», очень часто отражают не действительный исторический факт, а баланс сил, сложившийся в постоянной борьбе деревни с землевладельцами и другими деревнями. Исследователи британского рабочего движения знают, что профессиональное или цеховое «право» не обязательно восходит к древней традиции; зачастую это любое, сколь угодно недавнее право, которое рабочим удалось утвердить на практике и которое они пытаются распространить или защитить, приписывая ему существование от века.
«Обычай» не может быть чем-то неизменным, потому что даже в традиционных обществах не может быть неизменной жизнь. Для обычного или общинного права как раз характерно сочетание гибкости содержания с формальной приверженностью прецеденту. Разница между «традицией» и «обычаем» в нашем понимании этих слов хорошо иллюстрируется следующим образом: в суде «обычай» — это то, что судьи делают, тогда как «традиция» (и в данном случае именно изобретенная традиция) — это парики, мантии и другие формальные принадлежности и ритуализированные действия, сопутствующие собственно действию. Упадок «обычая» неизбежно меняет и «традицию», с которой он, как правило, тесно связан.
Второе, менее важное, различие, которое необходимо провести, — это различие между «традицией» в нашем ее понимании и заведенным порядком или правилом. По своей сути порядок и правило не обладают сколько-нибудь значительной ритуальной или символической функцией, хотя и могут ее обрести случайным образом. Любое общественно значимое действие, которое надо выполнять снова и снова, предрасполагает к тому, чтобы из соображений удобства и эффективности был создан некий свод правил его выполнения и чтобы де-факто или де-юре он стал сводом правил формальных, обеспечивающих точную передачу необходимых навыков новым исполнителям.
Это относится как к прежде неизвестным (таким, например, как работа авиапилота), так и к давно знакомым видам деятельности. После промышленной революции обществу приходилось изобретать, вводить или усложнять хитросплетения таких правил гораздо чаще, чем до нее. А поскольку лучше всего они срабатывают при условии, что следование им становится привычкой, автоматически совершаемой процедурой или даже чисто рефлекторным действием, они должны быть совершенно неизменными, что может, кстати, помешать выполнению другого необходимого условия всякой практической деятельности — способности справляться с непредвиденными и непривычными обстоятельствами. Эта хорошо знакомая слабость всякой рутины, всякой бюрократизации особенно заметна на уровне подчиненных, где неизменное исполнение рассматривается как самое эффективное исполнение.
Такие своды правил и процедур не являются «изобретенной традицией», так как по своим функциям, а значит и по обоснованию, относятся скорее к области технического, чем идеологического (по марксистской терминологии — принадлежат базису, а не надстройке). Создаются они для того, чтобы инструктировать в практических действиях, и под давлением опять-таки практических нужд их с легкостью модифицируют или вовсе от них отказываются. (При этом всегда остается место для инерции — с течением времени ее обретает любая практика, — равно как и для сопротивления любым нововведениям людей, привыкших действовать определенным образом.) Разница между ними и «традицией» особенно хорошо заметна там, где они сосуществуют с последней. С точки зрения здравого смысла человеку, занимающемуся верховой ездой, надевать твердую шляпу так же полезно, как шлем мотоциклисту или стальную каску солдату. А вот когда надевают твердую шляпу строго определенного покроя, да еще обязательно вместе с красным камзолом, — тогда мы имеем дело со смыслом совсем иного рода.
Будь это не так, изменить «традиционный» костюм английского охотника на лисиц было бы не труднее, чем ввести (после того, как доказано, что таким образом обеспечивается более действенная защита) новую форму каски в армии — довольно консервативном институте. Вообще «традиции» и прагматические правила и установления находятся по отношению друг к другу в обратно пропорциональной зависимости. «Традиции» дают слабину в том случае, когда, скажем, запреты на ту или иную пищу оправдываются прагматическими соображениями (например, либерально мыслящие евреи объясняют, что оставленный их предками завет не употреблять свинину возник по причине гигиенических соображений). И наоборот, вещи и действия полностью освобождаются для ритуального или символического использования тогда, когда утрачивают практический смысл. Шпоры кавалерийских офицеров куда более значимы с точки зрения «традиции», когда их обладатели спешены; зонтики гражданских чиновников утрачивают свой символический смысл, когда они раскрыты (то есть используются по прямому назначению); парики судейских вряд ли бы обрели свое нынешнее значение, если бы все прочие люди не перестали носить парики.
Изобретение традиций, о которых здесь идет речь, — это процесс формализации и ритуализации. Его отличают также отсылки к прошлому — пусть даже только в форме предписываемого повторения.

Британские судьи покидают Вестминстерское аббатство после традиционного заседания в честь начала нового «юридического года»
Как на самом деле создавались такие ритуально-символические комплексы, не было в должной мере исследовано историками. Многое еще остается довольно-таки неясным. Легче всего процесс описывается тогда, когда инициатива конструирования традиции принадлежит одному человеку, как это было с бойскаутами, придуманными Баден-Пауэллом. Пожалуй, почти так же легко он прослеживается в случае с вводимыми и планируемыми церемониалами: тогда велика вероятность, что он хорошо задокументирован, как это было с нацистским символизмом на партийных съездах в Нюрнберге. Видимо, куда труднее проследить за процессом в ситуациях, когда такие традиции отчасти изобретались, отчасти естественно развивались группами частных лиц (здесь вероятность отражения процесса в бюрократической отчетности невелика) либо на протяжении какого-то времени утверждались неформальным образом в учреждениях типа парламента или в профессиональных средах типа среды юристов. Однако проблема тут не только в источниках, но и в исследовательских техниках. Правда, в нашем распоряжении имеются эзотерические дисциплины, специально занимающиеся символизмом и ритуалом, такие как геральдика или изучение литургии, и варбургианские исторические дисциплины. К сожалению, ни те, ни другие обычно не знакомы историкам индустриальной эпохи.
Нет, наверное, ни одного периода времени и ни одного места, из изучаемых историками, где нельзя бы было найти случаев «изобретения» традиции в описанном выше смысле. Но чаще всего традиция изобреталась в ходе радикального преобразования общества, когда быстро разрушались социальные формы, под которые подстраивались старые традиции, а взамен возникали такие формы, к которым эти традиции уже невозможно было приложить. Или когда старые традиции уничтожались потому, что и они сами, и поддерживающие их люди и институты не обнаруживали достаточную приспособляемость и гибкость. Могли они гибнуть и по какой-то другой причине; но, если говорить коротко, всегда, когда происходили достаточно большие и скорые изменения, как со стороны спроса, так и со стороны предложения.
Такие именно изменения были особенно значительными в последние двести лет, и поэтому резонно ожидать, что случаи внезапной формализации новых традиций будут особенно многочисленными в этот период. А это, между прочим, означает — в противовес тому, что полагали либералы XIX века или недавние сторонники теории «модернизации», — что подобные формализации происходят не в одних только «традиционных» обществах, но в той или иной форме и в обществах «современных». В широком смысле предположение справедливо; только надо быть поосторожнее с другим предположением, что более старые общественные формы и властные структуры и, соответственно, связанные с ними традиции не способны к адаптации и быстро становятся нежизнеспособными и что появление «новых» традиций обусловлено только тем, что невозможно использовать или приспособить старые.
Адаптация совершается и путем достижения старых целей в новых условиях, и через использование старых моделей в новых целях. Случается так, что в ней нуждаются старые институты с установившимися функциями, обоснованиями, почерпнутыми в прошлом, и ритуальными идиомами и практиками. Таковы: католическая церковь, столкнувшаяся с новыми политическими и идеологическими вызовами, со значительными сдвигами в составе верующих (сильная феминизация прихожан и духовенства) 1 ; профессиональные армии при переходе к всеобщей воинской повинности; древние судебные институции, теперь работающие в ином контексте, а иногда и с изменившимися функциями в новом контексте.
Сюда же относятся учреждения, номинально не изменившиеся, но фактически превратившиеся в нечто совсем другое по сравнению с тем, чем они были раньше, например университеты. Так, Бансон 2 был проведен анализ причин, по которым после 1848 года внезапно приходит в упадок традиция массовых выходов немецких студентов из университетов (по причине конфликта или в демонстративных целях). Оказалось, что тут сыграли свою роль и изменения в устройстве самих университетов, и «постарение» студенческой «популяции», что вместе с ее обуржуазиванием уменьшило трения между горожанами и студентами и мятежный дух последних, и новая практика свободных переходов из университета в университет, обусловленные ею перемены в студенческих союзах и прочие факторы 3 . Во всех этих случаях новое не перестает быть новым из-за того, что ему удается рядиться в одежды седой старины.
С нашей точки зрения более интересным представляется использование старинных материалов для того, чтобы сконструировать изобретенную традицию нового типа, служащую новым целям. Большие запасы таких материалов накоплены всяким обществом, хорошо разработанный язык символической практики и коммуникации всегда доступен. Иногда новые традиции могут быть легко привиты к старым; иногда они вырабатываются с помощью заимствований из доверху наполненных хранилищ официального ритуала, символизма и моральной проповеди, оставленных религией, королевским двором, фольклором и масонством (последнее само было поначалу изобретенной традицией большой символической силы). Рассмотрим развитие швейцарского национализма, по времени (XIX век) совпавшее с формированием современного федеративного государства. Оно было блестяще исследовано Рудольфом Брауном 4 , обладавшим особым преимуществом — знанием этнологии (Volkskunde), очень подходящей для таких исследований. Благо изучал он ее в стране, в которой процесс обновления этой дисциплины не был отброшен назад как в Германии, где она попала в идеологическую связку с преступлениями нацистов. Существовавшие обычные традиционные практики — исполнение народных песен, физические состязания, стрельбы — были модернизированы, ритуализированы и институционализированы таким образом, чтобы служить новым национальным задачам. Традиционный песенный фольклор был пополнен новыми песнями, зачастую сочиненными школьными учителями с использованием старых идиом и затем включавшимися в репертуары хоров.
Содержание их было патриотически-прогрессистское («Нация, нация — как славно звучит это слово!» — Nation, Nation, wie voll klingt der Ton), хотя в нем нашлось место и явно ритуальным элементам из религиозных гимнов. Положение о Федеральном песенном фестивале — не напоминает ли оно нам о валлийских музыкально-поэтических состязаниях eisteddfodau? — провозглашает, что целью его является
«развитие и улучшение народного пения, пробуждение возвышенных чувств к Богу, Свободе и Стране, союз и побратимство друзей Искусства и Родины».
(Слово «улучшение» как раз и отражает столь характерное для XIX века стремление к «прогрессу».)
Вокруг и по поводу фестиваля сформировался мощный ритуальный комплекс: фестивальные павильоны, сооружения для подъема и вывешивания флагов, храмики для пожертвований, процессии, колокольные звоны, живые картины, оружейные салюты, правительственные делегации, приветствующие участников, обеды, тосты, оратории… И для всего этого опять были использованы старые материалы. В этой новой фестивальной архитектуре несомненны отзвуки барочных празднеств и представлений, барочной пышности. И как на празднествах времен барокко, государство и церковь сливаются на высшем уровне, так что сплав религиозных и патриотических элементов заявляет о себе и в этих новых формах хорового пения, стрельбы и гимнастических состязаний.
Здесь мы не будем обсуждать, сколь много новые традиции могут заимствовать из старых материалов, столь далеко заходят творцы традиций в процессе изобретения нового языка или символа, насколько они при этом преступают допустимые пределы использования старого словаря символов. Ясно только, что из-за изобилия политических институтов, идеологических движений и групп — не в последнюю очередь националистических — приходилось изобретать саму историческую преемственность, например, путем продления древнего прошлого за пределы его действительной исторической протяженности.
Делалось это либо с помощью полувыдумки-полуправды (вспомним о Боадицее, Верцингеториксе, хевруске Арминиусе), либо с помощью подделок (Оссиан, чешские средневековые рукописи). Ясно также, что вместе с национальными движениями и государствами возникли и совершенно новые символы и эмблемы: государственные гимны (самый ранний из них — британский, появившийся в 1740 году), государственные флаги (в большинстве своем представляющие собой различные вариации на тему французского триколора, оформившегося в 1790–1794 годах) или же различные персонификации «нации» в символе или изображении, либо официально принятые, как французская Марианна и дева Германия, либо неофициальные, как карикатурные стереотипы Джона Булля, тощего янки Дяди Сэма и «немца Михеля».

Филипп Фейт. Дева Германия, порвавшая свои кандалы (март 1848). Висела в зале заседаний Франкфурского парламента в церкви св.Павла. О Германии как деве-воительнице см.стихи Марины Цветаевой 1939 г.
Не должны мы упускать из виду и такую примечательную особенность, как разрыв в преемственности. Так, он виден иногда даже в самых, казалось бы, традиционных, избитых литературных жанрах, в общих местах (topoi), уходящих корнями в подлинную древность. Если прав Ллойд 6 , то в Англии рождественские гимны перестали создаваться с XVII века: их заменили книжные сборники гимнов в духе сочинений Уоттса и Уэлсли (правда, известны и народные модификации последних, бытовавшие преимущественно в сельской местности среди ранних методистских сект). Тем не менее гимны оказались первой разновидностью песенного фольклора, возрожденной собирателями из средних классов, и именно им предстояло занять свое место «в прежде не существовавшем окружении из церковных, профессиональных и женских институтов». А уже оттуда усилиями «уличных певцов или безголосых мальчишек, распевающих у дверей в вечной надежде на вознаграждение», они распространились в новой народной городской среде.
С этой точки зрения фраза «Бог да вознаградит вас, джентльмены» настолько же старая, насколько и новая. Подобные же разрывы в преемственности отличают и те движения, что сознательно подают себя как «традиционалистские» и апеллируют к группам, всеми признаваемыми за хранителей исторической преемственности и традиции, например к крестьянам 7 . На деле само появление движения в защиту или за возрождение традиции, будь оно «традиционалистским» или каким-то другим, указывает на нарушение преемственности. Причем движения эти, со времен романтизма увлекающие интеллигенцию, никогда не развивают и даже не сохраняют живое прошлое (понятно, за исключением тех случаев, когда учреждаются специальные природно-человеческие убежища в виде изолированных уголков архаической жизни) — они должны стать «изобретенной традицией». С другой стороны, сила и приспособляемость подлинных традиций не зависят от процесса «изобретения традиции». Где живы старые формы жизни, нет нужды ни в возрождении, ни в изобретении традиций.
В то же время следует иметь в виду, что там, где традиции изобретаются, это зачастую делается не потому, что старые формы больше нежизненны или недоступны, а потому, что их сознательно не используют и не приспосабливают к новым условиям. Так, в XIX веке либеральная идеология общественных перемен, ратовавшая за разрыв с традицией и радикальное обновление общества, не смогла создать ничего подобного социальным и властным связям, которые в предшествующие эпохи считались чем-то само собой разумеющимся, и вынуждена была заполнять образовавшийся вакуум вновь изобретенными установлениями. В отличие от либералов фабриканты-тори Ланкашира вполне преуспели в использовании старых связей к своей выгоде и тем самым доказали, что эти связи еще действовали в новой среде промышленного города 8 . Конечно, нельзя было не признать, что в долгосрочной перспективе старые образцы жизни не смогут приспособиться к революционным изменениям в обществе; но такое признание не снимало проблем, возникавших из-за того, что эти образцы отвергались также и на краткосрочную перспективу теми, кто считал их препятствиями на пути прогресса или, того хуже, был их воинствующим противником.
Это не мешало сторонникам нового создавать свои собственные изобретенные традиции. Подходящий пример здесь — масонство. Тем не менее общая враждебность ко всему иррациональному, к предрассудкам и обычаям, если не прямо унаследованным от темного прошлого, то напоминающим о нем, делала нетерпеливых поклонников просветительских идеалов — либералов, социалистов, коммунистов — невосприимчивыми как к старым традициям, так и к новым. Социалисты сами не могли понять, как это у них образовался праздник Первого мая. А вот национал-социалисты эксплуатировали традиции с прямо-таки литургической искушенностью и рвением, сознательно манипулируя символами 9 . В Британии же в либеральную эпоху их в лучшем случае лишь терпели, делая таким образом вынужденную уступку иррационализму низших классов. Господствующее отношение представляло собой смесь враждебности и терпимости к собраниям и ритуалам, устраивавшимся квакерскими объединениями. «Ненужные» расходы (затраты на процессии, знамена, разного рода регалии) были вообще запрещены по закону. В то же время признавалось, что сами ежегодные празднества запрещать не стоит, поскольку «значительное тяготения к таким мероприятиям, особенно в среде сельского населения, нельзя отрицать» 10.
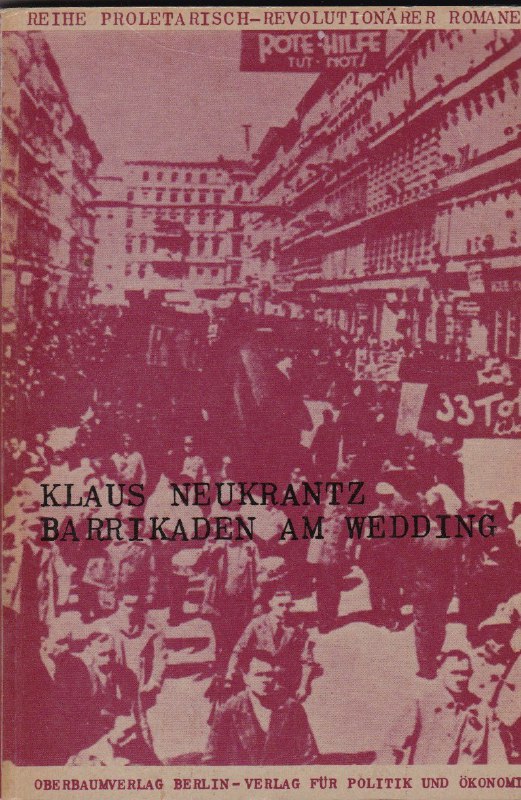
1-3 мая 1929 года берлинская полиция расстреляла демонстрацию, организованную Компартией Германии и Союзом красных фронтовиков. В 1931 году Клаус Нойкранц написал роман «Баррикады в Веддинге» о событиях «Кровавого мая»:
«Переулок был светящимся красным лесом знамен. Не было почти ни одного окна, из которого не развевалось бы красное полотно или хотя бы скромный красный лоскут. Из нескольких окон висели большие красные транспаранты: «Долой запрет проведения демонстраций» и «Свободную улицу 1 мая». На одном были нарисованы серп и молот, а ниже стояло: «Да здравствует Советский Союз – завоюем себе советскую Германию!» На углу Визенштрассе висел через дамбу красный суконный транспарант, на котором светились огромные буквы: «Рот фронт!»». Конечно, участники майских событий моментально стали международными героями. Фото из августовского журнала «Смена» за 1929 год. ТГ «Красный фронтовик«. После Кровавого мая появилась песня «Der rote Wedding (Красный Веддинг)», названная в честь пролетарского района Берлина, жители которого и попали под полицейские пули. Эта песня стала главным пролетарским гимном и исполнялась на каждом массовом собрании.
Суровый индивидуалистический рационализм господствовал не только в виде экономического расчета, но и как общественный идеал. В главе 7 мы покажем, что произошло, когда его ограниченность стала в возрастающей степени осознаваться. Заключим наши вводные замечания несколькими общими наблюдениями по поводу традиций, изобретенных в период, последовавший за промышленной революцией.
Представляется, что традиции эти были трех, отчасти друг на друга накладывающихся, типов. Традиции первого типа устанавливали или символизировали социальную связь, членство в группах, подлинных или искусственных общинах. Традиции второго типа вводили институты, статусы и отношения, обусловленные властью, придавали им «законную» силу. Главной задачей традиций третьего типа была социализация — запечатление в сознании верований, систем ценностей и правил поведения. Хотя среди изобретавшихся определенно присутствовали традиции второго и третьего типа (вроде символизировавших подчинение властям в Британской Индии), в порядке гипотезы можно утверждать, что преобладающими были традиции первого типа.
Предполагалось, что функции традиций других типов вытекают из ощущения идентичности с «общиной» и/или внутренне присущи институтам, представлявшим, выражавшим и символизировавшим идентичность с «нацией». Сложность заключалась в том, что такие большие социальные общности, как «нация», явно не были органическими системами (Gemeinschaften), ни даже системами общепринятых социальных рангов. На фоне социальной мобильности, классовых конфликтов и господствующей идеологии традициям, сочетавшим в себе коллективизм и выраженное неравенство формальных иерархий (как в армии), было очень непросто утвердить свои притязания на всеобщность. Только традициям третьего типа не особенно мешала эта трудность, так как всеобщая социализация прививала одни и те же ценности каждому гражданину, каждому члену нации, каждому подданному короны.
Функционально специфические способы социализации в разных социальных группах (например, в отличной от других учащихся группе учеников закрытых частных школ) обычно тоже не сталкивались между собой. С другой стороны, поскольку изобретенные традиции вводили в мир контракта статус, в мир равенства по закону неравенство высших и низших по положению, они не могли действовать напрямую. Они протаскивали все это контрабандным путем — как, например, при изменении ритуала коронации в Британии 11 — через формальное57 символическое согласие общества на социальную организацию, предполагающую фактическое неравенство. Следует заметить, что чаще удавалось раздувать дух корпоративного превосходства в элитах (особенно когда их приходилось пополнять из числа тех, кто к ним не принадлежал по рождению и положению), чем прививать чувство покорности низам. Так сказать, некоторые поощрялись чувствовать себя более равными, чем все остальные. Это достигалось посредством уподобления элит добуржуазным правящим или авторитетным группам то в милитаристско-бюрократической форме, характерной для Германии, где образцом послужили общества студентов-дуэлянтов, то по немилитаризованной модели «морального джентри», культивировавшейся в английских частных школах. Корпоративный дух, уверенность в себе и в своем лидерстве могли прививаться и противоположным образом — с помощью более эзотерических «традиций», в которых акцент делался на замкнутость касты высших чиновников (во Франции или среди белых в колониях).
Недостаточно признать, что основным типом изобретенных традиций были традиции коммуналистские — надо еще изучить их природу. Прояснить различия — если таковые имеются — между изобретенными и старыми традициями может антропология. Пока же позволим себе просто заметить, что в то время как в традициях групп, частичных по своему социальному масштабу, как правило, широко представлены ритуалы перехода (инициация, возвышение, отставка, смерть), в традициях псевдообщностей, по замыслу всеобъемлющих (нации, страны), этого обычно не было и главным образом потому, что им предписывался вечный и неизменный характер, как минимум, с момента основания. Но это не означает, что новые политические режимы и обновленческие движения вообще не пытались найти собственные эквиваленты традиционным религиозным ритуалам перехода (свидетельства тому — гражданский брак и гражданские похороны).
Бросается в глаза одно различие между старыми и изобретенными установлениями. Первые были специализированными и сильно обязывающими социальными практиками, вторые же склонны оставаться неспециализированными и не прояснять сущность тех ценностей, прав и обязательств, вытекающих из членства в группе, которые они прививают: «патриотизма», «верности», «долга», «соблюдения правил игры», «духа школы» и тому подобного. Но если содержание британского патриотизма или «американизма» было явно плохо очерчено (хотя некоторое уточнение достигалось с помощью комментариев по случаю исполнения ритуалов), то ритуалы, символизирующие это содержание, были воистину принудительными. Так, и при исполнении государственного гимна в британских школах, и при подъеме флага в американских надо обязательно вставать. Ключевое значение этому придавалось, видимо, чтобы разработать эмоционально и символически заряжающие знаки принадлежности к клубу, а не устав и цели самого клуба. Значимость этих знаков заключается как раз в их расплывчатой всеобщности.

Клятва верности флагу США в школе (1941 г.). Похожий за зигу жест — салют Беллами, возникший аж в 1892 г. в скаутских организациях
Государственный флаг, гимн и герб — три символа, посредством которых независимая страна заявляет о своей идентичности и суверенности. Как таковые, они немедленно внушают чувства уважения и преданности. В них отражаются полнота прошлого, национальной мысли и культуры 12. В этом смысле один наблюдатель был прав, заметив в 1880 году:
«теперь солдаты и полицейские носят свои знаки отличия для нас».
Правда, он не предвидел, что в эпоху массовых движений, которая была уже не за горами, эти знаки снова станут принадлежностью обычных граждан 13 .
Второе наблюдение, представляющееся мне очевидным, заключается в том, что, несмотря на их многочисленность, изобретенные традиции не заполнили и малой части пространства, освободившегося вследствие векового упадка старых традиций и обычаев. Впрочем, этого и следовало ожидать в обществах, в которых прошлое в возрастающей степени становилось все менее подходящим образцом для многих форм человеческого поведения. В частной жизни большинства людей и в самодостаточной жизни маленьких субкультурных групп даже изобретенные традиции XIX и XX столетий занимали и занимают куда меньше места, чем старые традиции занимали в жизни старых аграрных обществ 14 . В XX веке «то, что было», определяет структуру дня, времени года или жизненного цикла западных мужчин и женщин намного меньше, чем то было у их предков, и намного слабее, чем то делают внешние импульсы, рождаемые экономикой, технологией, государственной бюрократической организацией, политическими решениями и другими силами, которые и не опираются на «традицию» в нашем смысле этого слова, и не развивают ее.
Это обобщение неприменимо, однако, к области публичной жизни (включая сюда до некоторой степени и общественные формы социализации, такие, как государственные школы и масс-медиа). Нет никаких реальных признаков того, что неотрадиционные практики, связанные либо с деятельностью сообществ людей на государственной службе (в вооруженных силах, судах, возможно, и в общественных службах), либо с гражданством, ослабевали. Ситуации, напоминающие людям об их гражданстве (например, выборы), постоянно ассоциируются с символами и полуритуальными действиями, большинство из которых — флаги, изображения, церемонии, музыка — являются изобретенными историческими новшествами. Поскольку традиции, возникавшие после промышленной и Французской революций, заполняли имевшиеся пустоты, они оставались в силе, во всяком случае, до настоящего времени.
В заключение можно было бы спросить: почему историки должны уделять внимание этим феноменам? В определенном смысле вопрос этот излишний: растущее число историков это просто делает, как о том свидетельствует содержание нашей книги и приводимые в ней ссылки. Поэтому вопрос должен быть сформулирован по-другому: какую пользу приносит историкам исследование процесса изобретения традиций?
Прежде всего, изобретенные традиции — существенные симптомы и индикаторы. Без них мы не заметили бы некоторые проблемы, не смогли бы установить и датировать некоторые изменения. Они — свидетельства. Трансформация германского либерализма из его старой либеральной разновидности в новую, империалистическую и экспансионистскую, прослеживается более точно благодаря замене к 1890 годам прежних черно-красно-золотистых цветов, принятых немецким гимнастическим движением, на новые, черно-бело-красные. История финалов Британского футбольного кубка рассказывает нам немало такого о развитии культуры городского рабочего класса, чего более привычные данные и источники рассказать не могут. В то же время изучение изобретенных традиций не должно быть отделено от более широких исследований по истории общества, в противном случае оно мало что даст помимо простой фиксации такого рода практик.
Во-вторых, изобретенная традиция проливает свет на отношение человека к прошлому, то есть на предмет историка и на его ремесло. Ведь для узаконивания тех или иных действий и для того, чтобы укрепить групповую солидарность, все изобретенные традиции используют, насколько это им удается, историю. Нередко история становится настоящим символом борьбы, как это было в 1889 и 1896 году в Южном Тироле, когда там возникало противостояние по поводу памятников Вальтеру фон Фогельвейде и Данте 15 . Даже революционные движения подкрепляли свои нововведения ссылками на «народное прошлое» (саксы против норманнов, «наши предки галлы» против франков, восстание Спартака), на революционную традицию («Немецкий народ также имеет свою революционную традицию» — Auch das deutsche Volk hat seine revolutionare Tradition, — утверждал Энгельс в первой же фразе своей работы «Крестьянская война в Германии» 16 ) и на собственных героев и мучеников.

V Всесокольский слёт в Праге, 1907. «Сокол» — массовая гимнастика с военно-патриотическим уклоном, созданная на волне чешского национального возрождения в 19 в., к 20му распространившая и в других славянских странах в рамках одноимённого буржуазного движения, в чешских землях националистического и противостоявшего рабочей гимнастике, патронируемой с.-д.
Книга Джеймса Конноли «Труд в истории Ирландии» являет собой прекрасный образец соединения всех трех тем. Элемент изобретения в этих случаях особенно ясен, потому что история, делающаяся частью идеологии, одним из источников60 знаний о себе нации, государства или движения, — это не та история, что действительно хранится в народной памяти. Это история отобранная, написанная, проиллюстрированная, популяризированная и в установленном порядке доведенная до людей теми, кто и должен все это делать. Специалисты по устной истории часто замечали, что в воспоминаниях людей старшего поколения всеобщая стачка 1926 года играет куда меньшую и куда менее драматическую роль, чем ожидали интервьюеры 17. Уже проанализировано, как Третья республика способствовала формированию имиджа Французской революции 18 . Тем не менее все историки, каковы бы ни были их цели, вовлечены в этот процесс, поскольку вносят свой вклад, осознанно или неосознанно, в создание, разрушение или переструктурирование образов прошлого, принадлежащих не только миру специалистов, но и общественной сфере человека как политического существа. Они могли бы, как минимум, постоянно помнить об этой составляющей их деятельности.
Хотелось бы подчеркнуть особый интерес «изобретенных традиций» для историков нового и новейшего времени. Эти традиции в высшей степени подходят к сравнительно недавней исторической инновации — «нации» и к ассоциируемым с нею явлениям — национализму, национальному государству, государственным символам, национальной истории и прочему. Все это держится на социальной инженерии, зачастую целенаправленной и всегда ведущей к новому, хотя бы потому, что в истории утверждению нового предшествует его введение. Независимо от того, насколько выражена преемственность в истории евреев или ближневосточных мусульман, израильский и палестинский национализмы и нации [на деле — еврейский и арабский, никаких отдельных «израильтян» и тем более «палестинцев» нет. Прим.публикатора] должны считаться новшествами, так как сама концепция национального государства в его нынешнем виде вряд ли была мыслима в этом регионе сто лет назад и вряд ли могла обрести реальные очертания до окончания Первой мировой войны.
Литературные национальные языки, на которых пишут и тем более говорят не одни только немногочисленные элиты, по большей части являются искусственными конструктами, созданными в разное время, но все — недавно. Как совершенно правильно заметил французский историк фламандского языка, фламандский, изучаемый сейчас в Бельгии, — вовсе не тот язык, на котором матери и бабушки фламандцев разговаривали со своими детьми: он только фигурально может быть назван «материнским языком» и уж никак не буквально. Нас не должен вводить в заблуждение странный, но объяснимый парадокс: современные нации со всем их громоздким снаряжением, как правило, претендуют на нечто прямо противоположное их новизне и искусственности, на то, что корнями своими они уходят в глубокое прошлое и являются человеческими сообществами столь «природными», что для их определения достаточно простого самоутверждения.
Какое бы содержание с точки зрения исторической и любой другой преемственности ни воплощалось в понятиях «Франция» и «французский» (а то, что оно есть, никто не собирается отрицать), сами эти понятия включают сконструированный или «изобретенный» компонент. И как раз потому, что столь многое из субъективного представления о современной «нации» состоит из подобных конструктов и ассоциируется с соответствующими вполне недавними символами и с соответствующим образом выдержанным дискурсом («национальной историей»), невозможно адекватно исследовать феномен национального, не обратив при этом пристального внимания на «изобретение традиции».
Наконец, исследование процесса изобретения традиций должно вестись как междисциплинарное, объединять историков, социальных антропологов и многих других специалистов, изучающих общество. Оно не может быть проведено должным образом без такого сотрудничества. Настоящая книга представляет в основном вклад историков.
Надеюсь, что не только историки сочтут ее полезной.
ПРИМЕЧАНИЯ
См., например: Tihon G. Les religieuses en Belgique du XVIIIe au XXe siécle: Approche statistique // Belgisch Tijdschrift v. Nieuwiste Geschiedenis / Revue Belge d’Histoire Contemporaine, 1976. Vol. VII. P. 1–54.
2Bahnson Karsten. Akademische Auszüge aus Universitäts und Hochschulorten. Saarbrücken, 1973.
3 B XVIII веке таких выходов было 17, между 1800 и 1848 годами — 50, а с 1848 по 1973 — только 6.
4 Braun Rudolf. Sozialer und kultureller Wandel in einem ländlichen Industriegebiet in 19. und 20. Jahrhundert. Erlenbach — Zürich, 1965. Ch. 6.
5 Op. cit. P. 336–337.
6 Lloyd A. L. Folk Song in England. London, 1969. P. 134–138.
7 Другое дело — возрождение традиции с такими целями, которые в действительности свидетельствуют о ее упадке. «Возрождение» фермерами в самом начале этого века их старой, различающейся от местности к местности, одежды, народных танцев и праздничных ритуалов не имеет отношения ни к их обуржуазиванию, ни к традиционализму. Со стороны это выглядело как ностальгия по старым временам господства культуры, которая тогда быстро уходила в прошлое; а на самом деле было демонстрацией классовой идентичности, посредством которой преуспевающие фермеры стремились обособить себя и по горизонтали — от горожан, и по вертикали — от мелких арендаторов, сельских ремесленников и сельскохозяйственных рабочих. См.: Christiansen Palle Ove. Peasant Adaptation to Bourgeois Culture? Class Formation and Cultural Redefinition in the Danish Countryside // Ethnologia Scandinavica, 1978. P. 128. См. также: Lewis G. The Peasantry, Rural Change and Conservative Agrarianism: Lower Austria at the Turn of the Century // Past & Present, 1978. No. 81. P. 119–143.
8 Joyce Patrick. The Factory Politics of Lancashire in the Later Nineteenth Century // Historical Journal, 1965. Vol. XVIII. P. 552–553.
9 Hartwig Helmut. Plaketten zum 1. Mai 1934P1939 // Aesthetik und Kommunikation, 1976. Vol. VII. No. 26. P. 56–59. Gosden P. H. J. H. The Friendly Societies in England, 1815–1875. Manchester, 1961. P. 123, 119.
11 Bodley J. E. C. The Coronation of Edward the VIIth: A Chapter of European and Imperial History. London, 1903. P. 201, 204.
12 Официальный комментарий правительства Индии. Цит. по: Firths R. Symbols, Public and Private. London, 1973. P. 341.
13 Marshall Frederick. Curiosities of Ceremonials, Titles, Decorations and Forms of International Vanities. London, 1880. P. 20.
14 Не говоря уже о трансформации устойчивых ритуалов, знаков единообразия и сплоченности в быстро меняющуюся моду в одежде, языке, социальном поведении, что в особенности характерно для молодежной культуры в развитых странах
15 Сole John W., Wolf Eric. The Hidden Frontier: Ecology and Ethnicity in an Alpine Valley. New York and London, 1974. P. 55.
16 О том, насколько в рабочих библиотеках Германии были популярны книги на эту и другие «боевые» исторические темы, см.: Steinberg H.-J. Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie. Zur Ideologie der Partei vor dem ersten Weltkrieg. Hanover, 1967. P. 131–133.
17 Eсть немало свидетельств тому, что люди, пребывающие «внизу», видят переживаемые ими исторические события не так, как люди «наверху», и тем более не так, как историки. Само это явление может быть названо «синдромом Фабрицио» — по имени героя «Пармской обители» Стендаля.
18 См., например: Gérard Alice. La Révolution Francaise: Mythes et Interprétations, 1789–1970. Paris, 1970.
Перевод с английского Сергея Панарина
Источник Вестник Евразии. 2000. №1.
 Массовое производство традиций: Европа, 1870—1914
Массовое производство традиций: Европа, 1870—1914
Содержание
Оно призвано привлечь внимание к двум главным формам создания традиции в XIX веке, которые обе отражают глубокие и стремительные социальные трансформации данного периода. Совершенно новые – или же старые, но кардинально трансформированные – социальные группы, среды и социальные контексты требовали новых приемов для обеспечения или выражения социальной сплоченности и идентичности; эти приемы понадобились также для того, чтобы структурировать социальные отношения. В то же время изменения в обществе делали традиционные формы управления государством и социальными или политическими иерархиями более трудным или даже невозможным делом. Такое положение в свою очередь потребовало новых методов управления и формирования уз верности.
По самой природе вещей более позднее изобретение «политических» традиций было также более осознанным и преднамеренным, так как его по преимуществу осуществляли институции, имеющие политические цели. Однако можно сразу заметить, что сознательное изобретение удавалось лишь в той мере, в какой оно транслировалось на правильной волне, то есть на той, на которой публика была готова его принимать. Мобилизация граждан-добровольцев путем официального учреждения новых праздников, церемоний, героев и символов, при помощи которых пытались распоряжаться растущими армиями госслужащих и подневольных школьников, могла закончиться провалом, если не удавалось вызвать по-настоящему искренний отклик у населения.
Германская империя не преуспела в своих усилиях превратить императора Вильгельма I в отца-основателя объединенной Германии, а его день рождения – в подлинно национальный праздник. Стараниями государства к 1902 году ему было построено 327 памятников. Для сравнения: только в одном 1898-м – когда умер Бисмарк – в 470 городах решили воздвигнуть «колонны Бисмарка»[2].
Тем не менее государство сочетало формальное и неформальное, официальное и неофициальное, политическое и социальное изобретение традиций – по крайней мере в тех странах, где в этом возникала нужда. Если смотреть «снизу», то государство все больше определяло ту гигантскую сцену, на которой разыгрывались критически важные действия, обусловливавшие жизнь людей и как подданных, и как граждан. В самом деле, оно все настойчивей определяло, а также регистрировало их гражданское существование. Возможно, такая сцена была не одна, но само ее существование и границы, а также степень – все более растущая – регулярности и тщательности вмешательства в жизнь гражданина оказывались решающими. В развитых странах «национальная экономика», область которой определялась территорией того или иного государства и ее органов, стала основной мерой экономического развития. Изменение границ государства или его политики имело существенные и долговременные последствия для всех его граждан. Стандартизация управления и законодательства, и в особенности государственного образования, трансформировала множество людей в граждан определенной страны: «крестьян – во французов», если вспомнить название соответствующей книги[3]. Государство оформляло коллективные действия граждан в той мере, в какой они официально признавались. Говоря попросту, оказание влияния на правительство и проводимую им политику, или же их смена, были главной целью внутренней политики, и обычный человек принимал в этом все большее участие. Политика в новом смысле, появившемся в XIX веке, была политикой по преимуществу общенациональной. С практической точки зрения общество («гражданское общество») и государство, внутри которого оно существовало, становились все более неразделимыми.

Монумент Тысячелетия Венгрии на площади Героев в Будапеште. Изначально он возводился при Франце Иосифе, поэтому на колоннаде были установлены статуи пяти представителей Габсбургской династии: Фердинанда I, Карла VI, Марии Терезии, Леопольда II и Франца Иосифа. В период коммунистической республики (1919) статуи Габсбургов с колоннады убрали, в период правления Миклоша Хорти (1920-1944) – вернули обратно, и уже только после Второй мировой войны в Венгерской народной республике статуи Габсбургов были окончательно заменены на статуи трансильванских князей XVII-XVIII веков – борцов за национальную независимость. Таким образом, современный монумент Тысячелетия украшают 14 скульптур, 9 из которых принадлежат средневековым королям независимой Венгрии, а 5 скульптур – национальным героям, боровшимся с господством Габсбургов.
Естественно, различные социальные классы, и особенно рабочий класс, должны были идентифицироваться в рамках общенациональных политических движений или организаций («партий»), но так же естественно, что de facto им приходилось оперировать в рамках нации[4]. Неудивительно, что движения, пытавшиеся представлять общество в целом или народ, должны были рассматривать свое существование по преимуществу в терминах независимого или хотя бы автономного государства. Государство, нация и общество слились воедино.
По той же причине государство, рассматриваемое «сверху», с точки зрения его формальных правителей или доминирующих групп, сталкивалось с беспрецедентными проблемами, связанными с тем, как именно устанавливать или поддерживать повиновение, лояльность или сотрудничество своих подданных или граждан или свою собственную легитимность в их глазах. Само то обстоятельство, что прямые, все более настойчивые и регулярные отношения государства с подданными или гражданами как индивидами (или по крайней мере с главами семей) становились все более значимы для его устойчивости, вело к ослаблению старых схем, посредством которых и поддерживалась социальная субординация: относительно автономные коллективы или корпорации, контролирующие собственных членов, пирамиды власти, связанные с высшими авторитетами на вершине, стратифицированные социальные иерархии, в которых каждая страта знает свое место, и так далее. В любом случае социальные трансформации, такие, как замена чинов на классы, их подрывают. Проблемы государств и правителей, очевидно, острее там, где их подданные уже стали гражданами, то есть людьми, чья политическая деятельность институционально признана как нечто, заслуживающее упоминания – пусть только и в форме выборов. Они становятся еще острее, когда массовые политические движения граждан сознательно бросают вызов легитимности систем общественно-политического управления или же угрожают доказать их несовместимость с государственным режимом, указав на их обязательства перед какой-то другой человеческой общностью – чаще всего классом, церковью или национальностью, находящейся выше него.
Проблема казалась легче разрешимой там, где социальная структура претерпела наименьшие изменения, где судьбы людей представлялись объектом воздействия выходящего за пределы разума божества и где по-прежнему действовали архаические способы иерархического господства и стратифицированного, многообразного и относительно автономного подчинения. Если что-то и могло мобилизовать крестьян Южной Италии за пределами их местечек, то это были церковь и король. И в самом деле, традиционализм крестьян […] постоянно хвалили консерваторы XIX века, видя в них идеальную модель политического поведения подданных. К сожалению, государства, в которых эта модель работала, были, по определению, «отсталыми» и, следовательно, слабыми, а любая попытка их «модернизовать» делала их еще менее пригодными для дальнейшего существования.
«Модернизация», которая поддерживала бы старый порядок социальной субординации, […] не так уж теоретически непредставима, однако пример практического успеха сложно найти где-либо, кроме Японии. Можно предположить, что такие попытки подлатать социальные связи традиционного порядка подразумевают сохранение социальной иерархии, усиление уз между подданными и центральным правителем, который, намеренно или нет, все сильнее представляет собой новый вид государства. «Боже, храни короля» становилось более эффективной политической заповедью, нежели «Боже, благослови эсквайра и наши с ним отношения и удержи нас в наших поместьях». […]
И, напротив, проблема казалась наиболее неподатливой в тех государствах, которые были совершенно новыми, где правители не могли использовать существующие узы политического повиновения и верности, а также в тех, чья легитимация (или легитимация того социального сословия, которое они представляли) больше не принималась. В период 1870–1914 годов – так уж вышло – было необычайно мало «новых государств». Большинство европейских стран, как и американских республик, к тому времени уже обзавелись базовыми официальными институциями, символами и практиками. […] У них были столицы, флаги, национальные гимны, военная форма и тому подобные атрибуты, выполненные по образцу Британии, чей национальный гимн (датируется примерно 1740-ми годами), возможно, был первым, и Франции, чей трехцветный флаг широко имитировался. Некоторые новые государства и режимы могли, как и французская Третья республика, обратиться к прошлому, к запасам более ранней французской республиканской символики, или, как бисмарковская Германская империя, сочетать отсылки к средневековой империи германской нации с мифами и символами либерального национализма, популярного среди среднего класса, а также к династической непрерывности прусской монархии, подданные которой к 1860-м составляли половину населения Германии. Среди крупных государств только Италия с нуля решала проблему, которую одной фразой выразил д’Адзельо[5]:
«Мы создали Италию, теперь мы должны создать итальянцев».
Традиции Савойского герцогства не имели политической ценности за пределами северо-западной части страны, а церковь противостояла новому итальянскому государству.
Хотя утверждение легитимности новых государств было сравнительно редким явлением, часто легитимности получалось добиться в процессе борьбы с популистской политикой. Это происходило в ходе политической мобилизации под эгидой – порознь или вместе, в сотрудничестве или в конкуренции – религии (католической, в основном), классового сознания (социал-демократия) и национализма, или по крайней мере ксенофобии. Политически эти вызовы заметней всего выражались на выборах и в тот период были неразрывно связаны с борьбой за право голоса для масс. […] К 1914 году широкое, хотя и не всеобщее, право голоса для мужчин действовало в Австралии (1901), Австрии (1907), Бельгии (1894), Великобритании (1867–1884), Германии (1871), Дании (1849), Италии (1913), Норвегии (1898), Франции (1875), Швеции (1907), Швейцарии (1848–1879) и США, хотя это право лишь изредка сочеталось с политической демократией. Однако даже там, где конституция не была демократической, сохранить преданность массового электората было проблематично. Непрерывный рост популярности социал-демократов в имперской Германии тревожил исполнительную власть, несмотря на то, что рейхстаг в действительности обладал небольшой властью.
Следовательно, именно прогресс электоральной демократии и последующее возникновение массовой политики сыграли главную роль в изобретении официальных традиций в период 1870–1914 годов. Особенно насущным это стало из-за доминирования либеральных конституционных институций и либеральной идеологии. Вышеназванные институции представляли собой преграду электоральной демократии – не теоретическую, а скорее практическую. В теории либералу естественно было уповать на скорое распространение гражданских прав на всех граждан – или по крайней мере на мужчин. Либеральная идеология достигла мощного триумфа в экономике и позволила провести социальные трансформации благодаря тому, что систематически отдавала предпочтение индивиду перед институализированной общностью, работе рынка […] – перед индивидуальными связями, классу – перед чиновной иерархией и Gesellschaft – перед Gemeinschaft[6]. Либеральная идеология с такой регулярностью забывала о тех социальных узах и нитях влияния, которые считались само собой разумеющимися в ранних обществах, что действительно преуспела в их ослаблении. Пока массы оставались вне политики или были готовы следовать за либеральной буржуазией, это не создавало значительных политических трудностей. Но начиная с 1870-х годов стало ясно, что массы вовлекаются в политику и больше нельзя рассчитывать на то, что они будут следовать за своими прежними господами.
Таким образом, после 1870-х и, почти наверняка, в связи с возникновением массовой политики правители и сочувствующие из среднего класса вновь открыли важность «иррациональных» элементов для поддержания целостности социальной ткани и социального порядка. Грэм Уоллес в «Человеческой природе в политике» (1908) отмечает:
«Любой, кто собрался основывать свое политическое мышление на пересмотре человеческой природы, должен начать с попытки преодолеть свою собственную склонность преувеличивать интеллектуальную мощь человечества»[7].
Новому поколению мыслителей преодолеть эту склонность оказалось несложно. Оно переоткрыло иррациональные элементы в индивидуальной «душе» (Пьер Жане, Уильям Джеймс, Зигмунд Фрейд), в социальной психологии (Густав Лебон, Габриэль Тард, Уилфред Троттер)[8], через антропологию первобытных людей, чьи практики, как казалось, сохранялись лишь в детских чертах современного человечества (разве Дюркгейм не обнаружил элементы всех религий в ритуалах австралийских аборигенов?[9]) и даже в квинтэссенции, цитадели человеческого разума – в классическом эллинизме (Джеймс Фрэзер, Френсис Корнфорд)[10]. Понимание политики и общества изменилось в результате осознания следующего факта: любые узы, удерживающие вместе человеческие сообщества, не являются следствием рационального расчета их отдельных представителей.
[…]
Было бы глупостью утверждать, что все, кто правил французской Третьей республикой, рассчитывали только на изобретение новых традиций – ради достижения социальной стабильности. Скорее они полагались на то, что правые находятся в постоянном электоральном меньшинстве, что голоса социально-революционных пролетариев и вспыльчивых парижан перевешивают чрезмерно представленные в парламенте деревеньки и городки и что подлинную страсть сельских республиканцев к Французской революции и их ненависть к интересам финансистов всегда можно утихомирить правильно проложенными вокруг их округов дорогами, а также поддержкой высоких цен на сельскохозяйственную продукцию и низкими налогами. Какой-нибудь лидер радикальных социалистов прекрасно осознавал собственные цели, когда работал над своей речью, отсылающей к духу 1789-го, а не 1793-го – равно как и к гимну Республики – в ее заключительной части, где обычно он клялся в своей верности интересам выборщиков – виноградарей Лангедока[11].
Тем не менее изобретение традиций играло важнейшую роль в поддержании Республики, пусть лишь оберегая ее и от социалистов, и от правых. Намеренно инкорпорируя революционную традицию, Третья республика либо одомашнивала социал-революционеров (как большинство социалистов), либо изолировала их (как анархо-синдикалистов). Взамен она смогла мобилизовать большинство своих потенциальных противников слева в один классовый фронт, выступающий в защиту Республики и революционного прошлого, что низвело правых на уровень постоянного меньшинства.
Главной функцией правых было предлагать добрым республиканцам нечто, против чего они могли бы объединиться. Социалистическое рабочее движение заметно сопротивлялось кооптации в буржуазную республику; отсюда ежегодные коммеморации Парижской коммуны у Стены коммунаров (1880); отсюда замена гимна с нового «Интернационала» на традиционную (а теперь официальную) «Марсельезу» во время дела Дрейфуса, а особенно во время споров об участии социалистов в буржуазном правительстве[12]. И снова радикальные якобинцы-республиканцы продолжали в рамках официального символизма настаивать на своем отличии от умеренных, находящихся у власти республиканцев. Агюльон, изучавший черты тогдашней маниакальной одержимости строительством памятников, особенно в эпоху самóй Республики, в период с 1875-го по 1914 год, отмечает, что в более радикальных городах Марианна обнажала по крайней мере одну грудь, а в более умеренных была одета пристойно[13]. Однако базовый факт состоит в том, что те, кто контролировал набор образов, символов и традиций Республики, были людьми из центра, маскировавшимися под крайне левых, радикальных социалистов согласно пословице:
«Как редиска: красные снаружи, белые внутри».
Как только они прекратили заботиться о судьбах Республики начиная с дней Народного фронта, дни Третьей республики были сочтены. Есть существенные свидетельства того, что умеренная республиканская буржуазия признавала характер главной политической проблемы («нет противников слева») с конца 1860-х годов и стала решать ее, как только Республика утвердилась у власти[14].
В смысле конструирования традиций особенно важны три главных изобретения. Первое было развитием светского эквивалента церкви: начальное образование, насыщенное революционными и республиканскими принципами и содержанием, осуществляемое светским аналогом священничества (или даже, имея в виду их бедность, монашества) – «работниками образования» (instituteurs)[15]. Нет сомнений, что это было сознательным творчеством ранней Третьей республики, и, учитывая вошедшую в поговорку централизованность французского правительства, содержание учебников, призванных не только превратить крестьян во французов, но и французов в добрых республиканцев, не было оставлено на волю случая. […]
Вторым изобретением были публичные церемонии[16]. Создание самой важной из них – Дня Бастилии – можно точно датировать 1880 годом. В этой церемонии сочетались официальная и неофициальная демонстрации, а также народные празднования (фейерверки, танцы на улицах) – все ради ежегодного подтверждения образа Франции как нации, родившейся в 1789 году, образа, в котором есть место для каждого француза. Празднование Дня Бастилии нередко выглядело чрезмерным и даже воинственным (чего вообще-то можно было избежать), но все-таки главной целью этой церемонии была трансформация наследия Революции в праздник, где государственный пафос смешивался с увеселением граждан.
Менее постоянной формой публичного празднования стали случавшиеся время от времени Всемирные выставки, придававшие Республике легитимность как воплощению процветания, технического прогресса и глобального колониального охвата, что тогда очень хотелось подчеркнуть[17].
Третье изобретение – уже упомянутое массовое производство памятников. Можно заметить, что Третья республика не поощряла, в отличие от других стран, возведения гигантских статуй и публичных зданий, большой запас которых во Франции уже имелся – хотя от больших выставок несколько таких зданий в Париже все же остались. Основной чертой французской «мании статуй»[18] была ее демократичность, что предвещало возникновение мемориалов после войны 1914–1918 годов. Эта мания населила города и сельские общины двумя типами памятников, представляющих образы самой Республики (Марианны) и бородатых гражданских фигур тех, кого местный патриотизм посчитал достойными увековечивания, деятелей как прошлого, так и настоящего. Хотя возведение республиканских памятников и культивировалось, саму инициативу и расходы на подобные предприятия брали на себя местные власти. Рыночные условия обеспечивали выбор, подходящий кошельку любой республиканской коммуны – от скромных бюстов Марианны для самых бедных до полнофигурных статуй, постаментов и даже аллегорических или героических аксессуаров, которые наиболее честолюбивые граждане захотели бы возложить к ногам символической Родины[19]. Пышные скульптурные ансамбли на площади Республики и площади Нации в Париже представляют собой крайнюю версию такой статуарности. Подобные монументы должны демонстрировать корни Республики в ее сельских форпостах – и могут рассматриваться как визуальные связки между избирателями и образом нации.
Некоторые другие черты официально «изобретенных» традиций Третьей республики можно отметить вскользь. За исключением случаев памятования знаменитостей из локального прошлого или местных политических событий, эти традиции старались держаться от истории подальше.

Статуя Республики на одноимённой парижской площади (1880). У ног дородной женской фигуры в лавровом венке с оливковой веткой мира в поднятой руке — женские фигуры с факелами и знамёнами в руках, символизирующие Свободу, Равенство и Братство. Внизу — бронзовый лев, в окружении горельефов, отображающих события французской истории.
Отчасти это было связано с тем, что история до 1789 года взывала к церкви и монархии, а частично оттого, что история после 1789 года разделяла, а не объединяла общество: каждый бренд республиканизма имел своих героев и антигероев в революционном пантеоне. […] Партийные различия выражались в наборе статуй Робеспьера, Мирабо и Дантона. В отличие от США и государств Латинской Америки, Французская республика избежала появления культа отцов-основателей. Она предпочла общие символы, удерживаясь от использования тем, относящихся к национальному прошлому, даже на почтовых марках вплоть до 1914 года, хотя большинство европейских стран (кроме Британии и Скандинавии) открыли их привлекательность уже в середине 1890-х годов. Символов было немного: триколор, монограмма Республики RF, лозунг «Свобода. Равенство. Братство», «Марсельеза» и сам символ Республики и свободы – Марианна, – обретший окончательную форму еще в последние годы Второй империи. Мы также можем заметить, что Третья республика не выказывала официального стремления к специально изобретенным церемониям, столь характерным для Первой: праздникам Древа Свободы, Богини Разума и прочим. Не было даже официального национального дня, кроме 14 июля, никаких формальных мобилизаций, процессий и маршей гражданственности. […] Скорее произошла «республиканизация» показного блеска государственной власти – униформы, парадов, лент, флагов и прочего.

Н. Валлен. Марианна. Скрещённые руки у изображаемых Марианн символизируют братство, корона — непобедимость Франции, обнажённая грудь — эмансипацию.
Второй Германский рейх представлял собой интересный контраст, особенно учитывая, что в нем также можно опознать некоторые из традиций, изобретенных Французской республикой. Главная политическая проблема империи была двойной: как обеспечить бисмарковской («прусско-малогерманской») версии объединения историческую легитимацию и как поладить с большей частью демократического электората, который предпочитал другое решение («великогерманцы», антипрусские партикуляристы, католики и, более всего, социал-демократы). Самого Бисмарка символизм особенно не волновал, за исключением того случая, когда он лично разработал трехцветный флаг, соединив черно-белый прусский с черно-красно-золотым флагом националистов и либералов, которых он желал привлечь на свою сторону (1866). У черно-бело-красного знамени империи не было никакого исторического прецедента. Рецепт политической стабильности Бисмарка был прост: добиться поддержки (преимущественно либеральной) буржуазии осуществлением как можно большей части ее программы, не ставя при этом под удар господство прусской монархии, армии и аристократии; использовать потенциальные противоречия между различными оппозиционными движениями и, насколько возможно, не дать демократическим процедурам влиять на политические решения правительства. Очевидно непримиримые группы, которые нельзя было умиротворить – особенно католики и постлассалевские социал-демократы, – превратились для Бисмарка в проблему. И действительно, он терпел поражение при лобовых столкновениях и с теми и с другими. […]
Изобретение традиций Германской империи, следовательно, было в первую очередь связано с эпохой Вильгельма II. Ее цель была двоякой: установить преемственность между Первым и Вторым рейхами, или, шире, выставить новый рейх как реализацию светских национальных чаяний немецкого народа и подчеркнуть особый исторический опыт, связывающий Пруссию с остальной частью Германии в строительстве новой империи в 1871 году. Обе цели требовали слияния прусской и германской истории, достижению чего и отдали дань патриотические имперские историки (особенно Генрих фон Трейчке). Главным препятствием на пути к достижению этих целей было, во-первых, то, что историю Священной Римской империи германской нации было сложно представить в националистическом оформлении XIX века, а во-вторых, эта история не предполагала неизбежности развязки 1871 года. Связать ее с новым национализмом можно было только двумя способами: при помощи образа светского национального врага, в борьбе с которым немцы определяли свою идентичность и достигали единства как государство, и при помощи модели завоевания или достижения культурного, политического и военного превосходства, благодаря которому немецкая нация, разбросанная по другим государствам, в основном Центральной и Восточной Европы, могла претендовать на право объединиться в одно великогерманское государство. Вторая модель не очень подходила для империи Бисмарка, особенно для «Малой Германии», хотя сама Пруссия, на что указывает и ее название, исторически была сконструирована путем экспансии в славянские и балтийские земли, находящиеся за пределами Священной Римской империи.
Здания и монументы были самой зримой формой новой интерпретации немецкой истории, или скорее сплавом старой романтической «изобретенной традиции» немецкого национализма, возникшей до 1848 года, и нового режима – наиболее мощными символами оказались именно смешанные. Таким образом, массовые движения немецких физкультурников, либералов и «великогерманцев» до 1860-х годов, бисмаркианцев после 1866 года (и в конечном счете пангерманское и антисемитское движения) приняли близко к сердцу три монумента, воздвигнутые практически без официального благословения: памятник вождю германского племени херусков Арминию в Тевтобургском лесу (созданный в 1838–1846 годах, но открытый лишь в 1875-м); Нидервальдский монумент над Рейном, знаменующий объединение Германии в 1871 году (1877–1883), и мемориал в честь столетия битвы при Лейпциге, заложенный в 1894-м и открытый в 1913 году.
Вместе с тем, немцы не выказали особого энтузиазма по поводу предложения превратить памятник Вильгельму I на горе Киффхаузер – там, где, согласно легенде, вновь объявится император Фридрих Барбаросса, – в национальный символ (1890–1896) и особо не отреагировали на установку памятника Вильгельму I и Германии у места слияния Рейна и Мозеля, призванного ответить на французские притязания на левый берег Рейна[20]. Если забыть об этих исключениях, масштаб строительства каменных монументов и статуй в Германии этого периода был весьма значительным, что обеспечило недурным доходом ряд сговорчивых и компетентных архитекторов и скульпторов. Среди того, что было воздвигнуто или запланировано только в 1890-х годах, можно упомянуть: новое здание рейхстага (1884–1894); памятник на горе Киффхаузер (1890–1896); национальный памятник Вильгельму I, явно претендовавшему на титул отца народа (1890–1897); монументы Вильгельму I в Порта-Вестфалика (1892) и у слияния Рейна и Мозеля (1894–1897); необычную скульптурную группу «Валгалла князей Гогенцоллернов» на Аллее Победы (Siegesallee) в Берлине (1896–1901); множество статуй Вильгельму I в разных немецких городах (Дортмунд, 1894; Висбаден, 1894; Пренцлау, 1898; Гамбург, 1903; Халле, 1901) и, немного спустя, ряд монументов Бисмарку, пользовавшихся большим одобрением у националистов. Открытие одного из этих монументов стало первым удобным случаем для использования исторических тем в почтовых марках империи (1899).

Нидервальдский монумент в честь объединения Германии
Такое нагромождение монументов и статуй требует двух пояснений. Первое касается выбора национального символа. Были доступны два таких символа. Смутная, но адекватная с военной точки зрения фигура «Германии», которая особой роли в скульптуре не играла, хотя с самого начала активно фигурировала на почтовых марках, так как ни один династический образ не мог пока символизировать Германию в целом. И фигура Deutsche Michel (Немецкий Михель), которая уже появлялась, правда, на вторых ролях, на памятнике Бисмарку. Deutsche Michel оказалась любопытной репрезентацией нации не как страны или государства, но как «народа», весьма оживлявшей «простонародный» политический язык карикатуристов XIX века и призванной (как Джон Буль и козлобородый Янки, но не как Марианна – образ Республики) выражать национальный характер в глазах самой нации. […] Трюк с Deutsche Michel состоял в том, что этот образ сочетал невинность и простодушие, жадно эксплуатируемые критически настроенными иностранцами, и физическую силу, к которой он мог прибегнуть в ответ на их хулиганские выходки и подначки, когда, наконец, выходил из себя. «Михель» казался по преимуществу образом для отпугивания врагов.

Немецкий Михель, изменившийся под влиянием чужих культур до неузнаваемости, на карикатуре пуристской листовки «Der teutsche Michel», 1642 год
Второй образ был критически важен для бисмарковского объединения Германии как единственного совместного национального исторического опыта, имевшегося у граждан новой империи, – учитывая, что все ранние концепции Германии и германского объединения касались так или иначе «Великой Германии». В рамках этого опыта франко-немецкая война занимала центральное место. Пока у Германии была (краткая) «национальная» традиция, ее символизировали три имени: Бисмарк, Вильгельм I и Седан. Это ясно показывают изобретенные (тоже преимущественно при Вильгельме II) церемонии и ритуалы.
Так, хроники одной гимназии запечатлели более 10 церемоний, проведенных с августа 1895-го по март 1896 года (год 25-летия франко-прусской войны), включая празднование годовщин сражений, дня рождения императора, официальное открытие портрета имперского князя[21], иллюминации и публичные речи о войне 1870–1871 года, связанные с развитием имперской идеи (Kaiseridee), а также о характере династии Гогенцоллернов и так далее[22]. […]
В том же году имперский декрет объявлял о строительстве Siegesallee, соединив это с 25-летием франко-прусской войны, когда якобы германский народ поднялся «весь, как один», хотя и «по призыву князей»,
«ответить на иностранную агрессию, скрепить единство отечества и восстановить Рейх славными победами»[23].
Siegesallee, стоит напомнить, представляла исключительно князей из дома Гогенцоллернов во времена маркграфов Бранденбурга.
Сравнение французских и немецких новшеств поучительно. И там, и там делался акцент на актах основания нового режима – Французской революции в ее наиболее точечном и противоречивом эпизоде (взятие Бастилии) и франко-прусской войне. За исключением этой единственной отсылки к прошлому Французская республика воздерживалась от исторической ретроспекции столь же рьяно, как Германская империя на нее опиралась. Так как революция установила сам факт, природу и границы французской нации и ее патриотизма, Республика могла ограничиться напоминанием о ней своим гражданам при помощи нескольких очевидных символов – Марианны, триколора, «Марсельезы», – сопровождая это краткой идеологической экзегезой (для бедных граждан) об очевидных, хотя порой и теоретических, преимуществах Свободы, Равенства и Братства.
Так как у «немецкого народа» до 1871 года не было ни политического определения, ни единства, и его отношение к новой империи (не включавшей большей его части) было неясным, символическим или идеологическим, то идентификация должна была быть более сложной и – за исключением роли династии Гогенцоллернов, армии и государства – менее четкой. Отсюда многочисленность отсылок, от мифологии и фольклора («немецкий дуб», император Фридрих Барбаросса) и до карикатурных стереотипов в определении нации терминами ее врагов. Как и многие другие освобожденные «народы», «Германию» было легче определить через то, чему она противостояла. […]
Парадоксально, но самая демократическая и наиболее ясно определяемая и по территории, и по конституции нация столкнулась с проблемой национальной идентичности почти так же, как и имперская Германия. Базовая политическая проблема Соединенных Штатов, как только произошло их отделение от метрополии, состояла в необходимости ассимилировать гетерогенную массу – а в конце интересующего нас периода это был почти неуправляемый поток – людей, бывших американцами не по рождению, а по месту переселения. Американцев надо было создать. Изобретение традиций в США в данный период должно было решать преимущественно эту задачу.
С одной стороны, иммигрантов поощряли следовать ритуалам, знаменующим историю нации (прежде всего подразумевалась революция и отцы-основатели) и англо-саксонскую традицию протестантов (День благодарения), благодаря чему эти дни стали государственными праздниками. И, наоборот, «нация» вплетала коллективные ритуалы иммигрантов (День святого Патрика, позже День Колумба) в ткань американской жизни, в основном, благодаря мощному ассимилирующему механизму политики на уровнях местного самоуправления и штата. С другой стороны, образовательная система была превращена в машину политической социализации при помощи таких трюков, как почитание американского флага, что в качестве ежедневного школьного ритуала продолжается с 1880 годов до сегодняшнего дня[24].
Концепция «американства» как акта выбора – учить английский, подать на гражданство – и предпочтения особых верований, модусов поведения подразумевает соответствующую концепцию «неамериканства». В странах, определяющих национальность экзистенциально, может быть непатриотичный англичанин или француз, но его статус англичанина или француза не должен вызывать сомнений, иначе их можно определить как чужестранцев (meteques). В США же, как и в Германии, «неамериканский», vaterlandslose человек бросает тень сомнения на свой статус представителя нации.

Пасхальный парад, 5я авеню, Нью — Йорк, 1900 г. Парады — одна из важнейших традиций США.
Как можно было ожидать, наибольшая и самая заметная часть таких сомнительных членов национальной общины относилась к рабочему классу; тем более сомнительных, что в США они всегда классифицировались как иностранцы. Масса новых иммигрантов действительно были рабочими, и начиная с 1860-х годов большинство рабочих практически во всех крупных городах казались местным жителям людьми, родившимися в другой стране. Неясно, является ли концепция «неамериканского», которую можно отследить по крайней мере с 1870-х годов, реакцией местных уроженцев на чужаков или англо-саксонского протестантского среднего класса на иностранцев-рабочих. Во всяком случае именно эта ситуация предоставляет обществу фигуру внутреннего врага, перед лицом которого добрый американец может проявлять свое «американство», в частности, пунктуально исполняя все формальные и неформальные ритуалы, поддерживая все верования, институционально закрепленные как характерные для него.
Мы можем более бегло рассмотреть изобретение государственных традиций в других странах. Монархии, по очевидным причинам, старались связать их с короной, и в этот период появились ныне знакомые пиар-ходы, сфокусированные на королевских или имперских ритуалах, чему весьма способствовало открытие – или лучше сказать «изобретение» – юбилеев и церемониальных годовщин. Это нововведение ныне отмечено даже в «New English Dictionary»[25]. Рекламную ценность годовщин ясно показывает то, как часто они оказываются поводом для выпуска почтовых марок – этой второй после денег универсальной формы для публичного размещения изображений.

Коммунистический парад, Вашингтон, округ Колумбия, 1933 г.
Почти наверняка, юбилей королевы Виктории в 1887 году, повторенный через десять лет в виду его примечательного успеха, стал источником вдохновения для последующих королевских и имперских юбилеев в Британии и во всем мире. Даже самые традиционалистские династии – Габсбурги в 1908 году, и Романовы в 1913-м – открыли для себя достоинства этой формы саморекламы. Она была новой в том, что касалось ориентации на широкую публику, в отличие от традиционных королевских церемоний, символизирующих взаимоотношения правителя с божеством и его положение на вершине аристократической иерархии. После Французской революции каждый монарх рано или поздно улавливал разницу между понятиями «король Франции» и «король французов» и устанавливал прямые отношения с сообществом всех своих подданных. Хотя стилистическое дополнение «монарх-буржуа» (впервые освоенное Луи-Филиппом) тоже было доступно, его принимали на себя лишь короли скромных стран, желавшие избежать особенного внимания к своей персоне, такие, как Нидерланды и Скандинавия. Правда, и некоторые из самых божественно помазанных правителей – особенно император Франц-Иосиф – иногда играли роль тяжко трудящегося чиновника, живущего по-спартански.
Технически нет разницы между политическим использованием монархии для усиления позиции эффективного правителя и выстраиванием символической функции коронованных особ в парламентских государствах. И то и другое опирается на эксплуатацию фигур монархов (неважно, имеют они династических предков или нет) в ходе ритуалов, сопряженных с пропагандистской активностью и широким участием народа, – не говоря уже о контролируемой аудитории образовательной системы, всегда доступной для официальной индоктринации. И то и другое превращает правителя в фокус единения его народа или народов, символическую репрезентацию величия и славы страны, репрезентацию всего прошлого и находящегося с последним в тесной преемственности изменчивого настоящего. Однако нововведения были самыми осознанными и систематическими там, где, как в Британии, возрождение королевского ритуализма виделось необходимым противовесом электоральной демократии. Бэджет[26] уже в дни Второго акта Реформы[27] признавал важность политического пиетета и «величественных» мест Конституции, в отличие от «эффективных». Дизраели[28] в старости научился пользоваться «почтением к трону и к особе, его занимающей», как «мощным инструментом власти и влияния», и к концу правления королевы Виктории природа этой уловки была хорошо понята. […] Слава и величие, богатство и мощь могли быть символическим образом разделены с бедными – через королевскую власть и ее ритуалы. Чем больше власти, тем менее привлекательной была для монархии буржуазность. И мы можем вспомнить, что в Европе в 1870–1914 годах монархия оставалась универсальной формой государства повсюду, кроме Франции и Швейцарии.
[…]
Определить, как группировались «изобретенные традиции» в западных странах в 1870–1914 годах, относительно легко. Выше мы уже упомянули достаточно примеров таких новшеств[29] – от сообществ выпускников школ и королевских юбилеев, Дня Бастилии и Дочерей Американской революции до Первомая, «Интернационала», Олимпийских игр, финала кубка страны по футболу и Тур-де-Франс как народных обрядов, не говоря уже о церемонии поднятия флага в США. Политическое развитие и социальные трансформации, которые были в ответе за образование таких ритуалов, тоже обсуждались, хотя сами по себе социальные трансформации понять сложнее. Дело в том, что, к сожалению, легче рассматривать мотивы и намерения тех, кто формально был занят институциализацией таких нововведений, и даже их последствия, нежели отследить новые практики, которые спонтанно возникали в гуще народа. Британским историкам будущего, если они захотят провести схожее исследование в связи с концом XX века, будет проще анализировать церемониальные последствия убийства лорда Маунтбеттена[30], нежели новые практики приобретения особенных, «индивидуальных» номерных знаков для автомобиля. В любом случае объект данного исследования относительно нов, и претендовать на что-то большее, нежели предварительная проба пера, было бы неуместно.
Тем не менее остаются три аспекта «изобретения традиции» в этот период, которые нуждаются к некотором комментарии. Первый – различение между устоявшимися новыми практиками, возникшими в это время, и теми, которые быстро исчезли. В ретроспективе может показаться, что период, заканчивающийся Первой мировой войной, должен быть отмечен разрывом между языками символического дискурса. Подобное можно углядеть в случае с военной формой, где, так сказать, «оперный модус» уступил место прозаическому. К примеру, униформа, изобретенная между мировыми войнами для участников массовых городских движений, не следовала требованиям армейского камуфляжа – тем не менее яркие цвета были отвергнуты и предпочтение отдано скучным оттенкам черного и коричневого, как у фашистов и нацистов[31]. В то же время в период 1870–1914 годов яркую ритуальную униформу для мужчин еще все-таки создавали, хотя примеры подобрать нелегко. Возможно, речь шла о приспособлении старых стилей к новым институтам того же типа и статуса – вспомним хотя бы академические мантии и капюшоны в новых колледжах и для новых научных степеней. Старые костюмы также, наверняка, сохранялись. Однако возникает отчетливое впечатление, что в этом отношении период перед Первой мировой жил накопленным капиталом. В других отношениях он с особым энтузиазмом развивал старый язык.
Одержимость по поводу статуй, аллегорических украшений и символических публичных зданий уже упоминалась; без сомнения, она достигла своего пика между 1870-м и 1914 годом. Однако в межвоенный период этот символический язык был обречен на внезапный и резкий упадок. Уже современники считали его чрезвычайную популярность столь же недолговечной, как и расцвет другого вида символизма – стиль art nouveau. […] О причинах этого остается лишь догадываться. Вместе с тем, можно предположить, что иная разновидность языка публичной символики, язык театра, оказался более стойким. Публичные церемонии, парады и ритуализованные массовые сборища были далеко не новы. Однако размах их адаптации к официальным и неофициальным, но всегда светским целям (массовые демонстрации, футбольные матчи и так далее) в данный период изумляет. Некоторые примеры уже приводились выше. Более того, конструирование формальных ритуальных пространств, сознательно создававшихся под германский национализм, кажется, систематически осуществлялось даже там, где прежде ничему такому внимания не уделялось, – тут можно вспомнить эдвардианский Лондон.
Равным образом не следует забывать об изобретении в этот период абсолютно новых пространств для зрелищных и de facto массовых ритуалов, таких, как спортивные стадионы. Монаршее присутствие на финале футбольного Кубка Англии на стадионе «Уэмбли» (с 1914 года), а также использование таких зданий, как Sportspalast в Берлине и Velodrome d’Hiver в Париже, для межвоенных массовых действ предвосхищало развитие формальных пространств для публичных массовых ритуалов, систематически культивируемых фашистскими режимами [а также США, с которых фашистские режимы копировали. Прим.публикатора]. Мы можем заметить, что по мере оскудения старого языка публичного символизма, новые декорации публичного ритуала должны были подчеркнуть простоту и монументальность, а не аллегорическую декоративность XIX века, такую, как ансамбль Рингштрассе в Вене и памятник королю Виктору-Эммануилу в Риме[32]. […] На сцене публичной жизни с устройства тщательно продуманных и разнообразных декораций, которые можно «прочесть», как читается комикс или рисунок ковра, акцент переместился на движение и участие самих акторов. Это движение могло производиться ритуальным меньшинством (как на военных или королевских парадах) и быть предназначенным для массовой публики, или – что предвосхищало политические массовые действия этого периода (майские демонстрации) и массовые спортивные сборища – в нем были задействованы как основные акторы, так и публика. Таковы были тенденции, которым было уготовано дальнейшее развитие после 1914 года. […]

1931. Собрание членов коммунистической партии в честь дня рождения Ленина. Мэдисон Сквер Гарден, Нью-Йорк — одно из простраснтв для такого рода мероприятий
Второй аспект изобретенной традиции этого периода касается практик, ассоциирующихся с отдельными социальными классами или слоями, отличными от более широких общностей, таких, как государства или «нации». Хотя подобные практики были формально задуманы как ярлыки для маркировки классового сознания – Первомай у рабочих, возрождение или изобретение «традиционной» крестьянской одежды для (de facto зажиточных) селян – многие из них невозможно идентифицировать даже теоретически; некоторые же представляли собой адаптацию, специализацию или даже захват практик, изначально созданных более высоким социальным слоем. Спорт – тому очевидный пример. Здесь линия классового разделения проводилась несколькими способами. Прежде всего аристократия или средний класс поддерживали контроль над институтами управления, социального вытеснения или чаще всего над дороговизной и малой доступностью необходимого спортивного оборудования (вспомним хотя бы теннисные корты). Но главным инструментом было строгое разделение на любительский спорт (прерогатива высших слоев общества) и профессиональный (небогатые горожане и рабочий класс). Классово-специализированный спорт редко развивался среди плебеев сам по себе. Там, где это происходило, мы обнаруживаем заимствованные у высшего класса спортивные практики и ритуалы; те, кто ими прежде занимался, вытесняются из этой сферы деятельности, а новые особые практики разрабатываются уже на новой социальной базе (как в «культуре футбола»).
Таким образом, практики, фильтрующие движение вниз, от аристократии к буржуазии и от буржуазии к рабочему классу, преобладали в этот период – и не только в спорте, но и в одежде, и в материальной культуре в целом, учитывая силу снобизма среднего класса и представление об особой ценности буржуазного самосовершенствования, характерные для элиты рабочего класса. Они трансформировались, но их историческое происхождение остается заметным. Противоположное движение тоже было, но не столь заметное в этот период. Меньшинства (аристократы, интеллектуалы, различного рода девианты) могли восхищаться той или иной городской плебейской субкультурой – например, мюзик-холлами, – но до массовой ассимиляции культурных практик, разработанных среди низших классов или для них, было еще далеко. […]

Рабочий спорт, Спартакиады, парады физкультурников — традиции и ритуалы международного коммунистического движения.
Последний аспект – отношение между «изобретением» и «спонтанным зарождением», планированием и ростом. Есть нечто, что постоянно ставит в тупик наблюдателей современных массовых обществ. «Изобретенные традиции» имеют существенные социальные и политические функции, они не смогли бы появиться или утвердиться без них. Однако насколько они манипулируемы? Намерение использовать, а часто и изобрести их для манипуляции очевидно; и то и другое имело место в политике, но первое, в основном (в капиталистических обществах) – в бизнесе. […] Однако также очевидно, что самые успешные примеры манипулирования относятся к тем, которые эксплуатируют практики, соответствующие необходимости, ощущаемой… особой общностью людей. Политику германского национализма во Второй империи нельзя понять как идущую только сверху вниз. Сегодня считается, что национализм до определенной степени ускользнул из-под контроля тех, кто счел его удобным для манипулирования[33]. Вкусы и моды, особенно в народных развлечениях, могли быть «созданы» лишь в очень узких рамках; их нужно было открыть до того, как эксплуатировать и оформлять. Задача историка – открыть их ретроспективно, а также попробовать понять, почему в изменяющихся обществах, в изменяющихся исторических ситуациях в них могла возникнуть нужда.
Сокращенный перевод с английского Андрея Лазарева
[1] Сокращенный перевод: Hobsbawm E. Mass-Producing Traditions: Europe, 1870–1914 // Hobsbawm E., Ranger T. (Eds.). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 263–309.
[2] Mosse G.L. Caesarism, Circuses and Movements // Journal of Contemporary History. 1971. Vol. VI. № 2. P. 167–182; Idem. The Nationalisation of the Masses: Political Symbolism and Mass Movements in Germany from the Napoleonic Wars Through the 3rd Reich. New York, 1975; Nipperdey T. Nationalidee und Nationaldenkmal in Deutschland im 19. Jahrhundert // Historische Zeitschrift. 1968. June. P. 529–585.
[3] Weber E. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914. Stanford, 1976.
[4] Это ярко продемонстрировали в 1914 году социалистические партии Второго Интернационала, которые до того не только объявляли себя по преимуществу международными, но иногда действительно официально рассматривали себя лишь как национальные отделения всеобщего движения (например, «Section Française de l’Internationale Ouvrière»).
[5] Массимо д’Адзельо (1798–1866) – итальянский писатель, художник и политический деятель. Участник движения за объединение Италии. – Примеч. перев.
[6] Понятия, восходящие к немецкому социологу Фердинанду Тённису, соответствуют различению между «общиной» и «обществом». – Примеч. перев.
[7] Wallas G. Human Nature in Politics. London, 1908. P. 21.
[8] Пьер Жане (Pierre Janet, 1859–1947) – основатель французской психологии. Уильям Джеймс (William James, 1842–1910) – американский философ, основатель американской психологии, автор работ о «религиозном опыте». Густав Лебон (Gustave Le Bon, 1841–1931) – французский психолог, один из первых исследователей так называемой «психологии толпы». Габриэль Тард (Gabriel Tarde, 1843–1904) – один из основателей французской школы криминологии. Уилфред Троттер (Wilfred Trotter, 1872–1939) – британский хирург и пионер нейрохирургии. – Примеч. перев.
[9] Durkheim E. The Elementary Forms of the Religious Life. London, 1976.
[10] Frazer J.G. The Golden Bough. London, 1930; Cornford F.M. From Religion to Philosophy: A Study of the Origins of Western Speculation. London, 1912.
[11] Touchard J. La Gauche en France depuis 1900. Paris, 1977. P. 50.
[12] Dommanget M. Eugene Pottier, Membre de la Commune et Chantre de l’Internationale. Paris, 1971. Ch. 3.
[13] Agulhon M. Esquisse pour une Archeologie de la Republique; Pallegorie Civique Feminine // Annates ESC. 1973. Vol. XXVIII. P. 5–34; Idem. Marianne au Combat: l’imagerie et la Symbolique Republicaines de 1789 à 1880. Paris, 1979. Марианна – символ Французской республики, а также прозвище самой Франции с 1792 года. Изображается молодой женщиной во фригийском колпаке, является олицетворением национального девиза Франции «Свобода. Равенство. Братство». – Примеч. ред.
[14] Elwitt S.H. The Making of the 3rd Republic: Class and Politics in France, 1868–1884. Baton Rouge, 1975.
[15] Duveau G. Les Instituteurs. Paris, 1957; Ozouf J. (Ed.). Nous les Maitres d’Ecole: Autobiographies d Instituteurs de la Belle Epoque. Paris, 1967.
[16] Rearick Ch. Festivals in Modern France: The Experience of the 3rd Republic // Journal of Contemporary History. 1977. Vol. XII. № 3. P. 435– 460; Sanson R. Les 14 Juillet, Fête et Conscience Nationale, 1789–1975. Paris, 1976.
[17] О политических аспектах выставки 1889 года см.: Silverman D.L. The 1889 Exhibition: The Crisis of Bourgeois Individualism // Oppositions. A Journal for Ideas and Criticism in Architecture. 1977. Spring. P. 71–91.
[18] Agulhon M. La Statuomanie et l’Histoire // Ethnologie Française. 1978. № 3. P. 3–4.
[19] Idem. Esquisse pour une Archeologie de la Republique…
[20] John H.-G. Politik und Turnen: die deutsche Turnerschaft als nationale Bewegung im deutschen Kaiserreich von 1871–1914. Ahrensberg bei Hamburg, 1976. P. 41 ff.
[21] Титул «имперские князья» появился во времена Священной Римской империи германской нации и обозначал того, кто владеет феодом в составе империи и имеет право голоса в рейхстаге. Статус «имперского князя» («рейхсфюрста») утверждался императором и был значительно выше обычного местного правителя («фюрста»). В данном случае имеется в виду монарх одного из вошедших в новую империю княжеств. – Примеч. ред.
[22] Stallmann H. Das Prinz-Heinrichs-Gymnasium zu Schoneberg, 1890–1945. Geschichte einer Schule. Berlin, n.d. [1965].
[23] Hardt R. E. Dir Beine der Hohenzollern. Berlin, 1968 (курсив Эриха Хобсбаума – Примеч. перев.).
[24] Firth R. Symbols, Public and Private. London, 1973. P. 358–359; Davies W.E. Patriotism on Parade: The Story of Veterans and Hereditary Organisations in America 1783–1900. Cambridge, Mass., 1955. P. 218–222; Douglas G.W. American Book of Days. New York, 1937. P. 326–327.
[25] Словом «юбилей» до конца XIX века обозначали только столетие и пятидесятилетие.
[26] Уолтер Бэджет (Walter Bagehot, 1826–1877) – известный британский бизнесмен и журналист, занимавшийся политикой. – Примеч. перев.
[27] Имеется в виду Вторая парламентская реформа в Соединенном Королевстве (1867), которая расширила электоральные права прежде всего населения крупных городов страны. – Примеч. перев.
[28] Бенджамин Дизраэли (1804–1881) – британский политический деятель, дважды премьер-министр страны, известный романист. – Примеч. перев.
[29] Так как статья публикуется в сокращении, в русском переводе некоторые из примеров опущены. – Примеч. перев.
[30] Лорд Луис Маунтбеттен – адмирал, последний вице-король Индии и дядя супруга королевы Елизаветы II Филиппа, был убит боевиками Ирландской республиканской армии в 1979 году. Похороны проходили по разработанным самим Маунтбеттеном предписаниям, которые он оставил в завещании. – Примеч. перев.
[31] Самой яркой деталью в подобных униформах были голубые рубашки и красные галстуки молодежных социалистических движений.
[32] Schorske C. Fin de Siecle Vienna: Politics and Culture. New York, 1980. Ch. 2; рус. перев.: Шорске К.Э. Вена на рубеже веков. СПб.: Издательство имени Новикова, 2001. – Примеч. перев.
[33] Eley G. Re-Shaping the German Right. London; New Haven: Yale University Press, 1980.
Источник Горки.Медиа
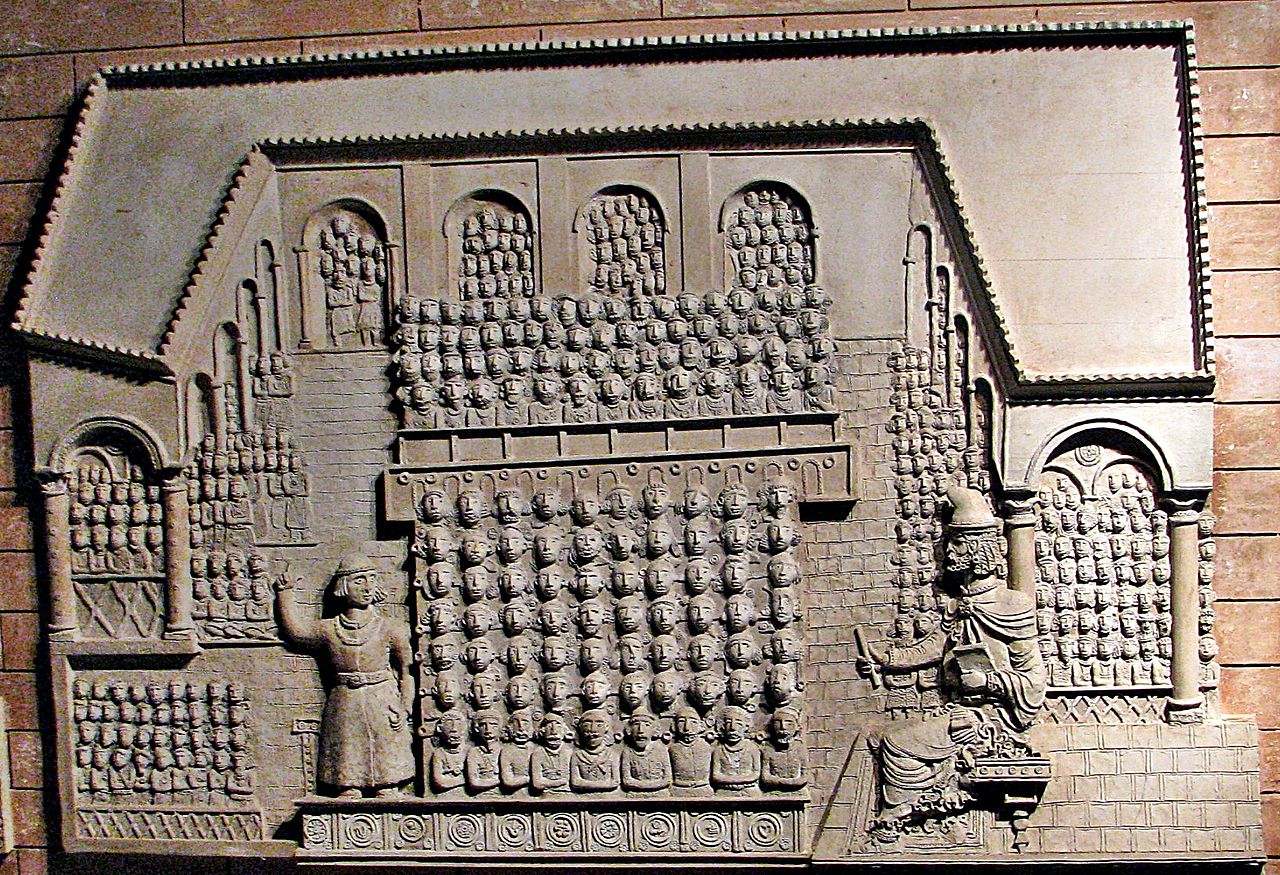
Рав Аши обучает в академии в Суре
Еврейство по матери (краткий исторический экскурс)
Галахические правила, в соответствии с которыми еврейство определяется по материнской линии (матрилинеарность), в настоящее время, когда еврейская община не представляет собой целостного религиозного сообщества, создают немалые проблемы:
1. Конфликт со светским Законом о возвращении, допускающим еврейство по отцу.
2. Многочисленные проблемы вокруг гиюра и отсутствие удовлетворительного решения этих проблем.
3. Соответственно, проблемы возникающие с вопросами брака, погребения, определения еврейства у детей граждан Израиля, а также других стран, являющихся евреями по отцу.
Разумеется, галахическая позиция здесь однозначна и опирается на талмудические положения (М.Киддушин 3.12, М. Йевамот 7:5, Кидушин 68б), в которых утверждается, что еврейство определяется по матери (точная дата составления трактата Киддушин в Вавилонской гемаре, в котором окончательно сформулирован принцип матрилинеарности, неизвестна, и ее можно условно датировать 3-7 вв н.э.) . Однако гибкая еврейская традиция знает немало примеров, когда положения священных еврейских источников реинтерпретировались в соответствии с требованиями времени, доказывая динамичность и жизнеспособность иудаизма.
Мы хотели бы подойти к вопросу матрилинеарности с исторической точки зрения, и показать, что в доталмудический период идея матрилинеарности в иудаизме отсутствовала, и еврейское происхождение определялось происхождением по отцу (патрилинеарность). Надеюсь, что научно-исторический вопрос может оказаться существенным при дальнейшем его обсуждении. Наши соображения для краткости будут представлены в тезисной форме.
I. Библейский период.
а) Очень сомнительно, чтобы сам статус женщины в библейском иудаизме мог предполагать столь важное положение, как определение еврейства по матери. Женщина была собственностью мужчины – сначала отца, а потом мужа. Жена и дети принадлежали мужчине наряду с землей и стадами (Дварим 5:21). Он мог продать дочь в рабство (Шмот 21:7, Неем.5:5). О бесправии женщины свидетельствует легкость развода со стороны мужчины (Дварим 24:1-4).
б). Еврейские генеалогические линии все мужские (Берейшит 5:10, 36:9-43), по «домам отцов их» (бейт авотем — Бемидбар 1:18). Статус, наследование, родство определяется по отцу (как сказано позже, уже в Талмуде, «семья отца — семья, семья матери — не семья», Бава Батра 109б). Если в генеалогиях и встречаются женские элементы, то очень редко и по специальным случаям.
в). Цари женились на иностранках: Йехуда – на хананенянке, Йосеф – на египтянке, Моше – на мидианитянке и эфиопке, Давид на филистимлянке, Соломон – вообще на дочерях самых разных народов. Все их дети считались евреями.
г). Дети от Рут, как и от жен царей, считались евреями. О том, что Рут и царские жены, принимали гиюр и становились еврейками, в Танахе ничего нет и историческими источниками никак не подтверждается. По древним ближневосточным традициям женщина, входившая в дом мужа, просто следовала законам его религии. Утверждение мудрецов, что на пленнице можно жениться только после обращения ее в иудаизм, не упоминается в соответствующем тексте Дварим 21:10-14, и много позже, в кумранском Храмовом свитке на эту же тему. Специальное обращение женщин в иудаизм упоминается только в нескольких текстах периода Второго храма, но о погружении в микву речи не идет. При этом, например, в еврейской повести про Йосефа и Аснат, датируемой не раньше, чем 1-2 в. н.э., последняя обращается в иудаизм через поедание меда из пчелиных сот, который ей из рая доставил ангел. Существует и достаточно много источников. в которых жены евреев упоминаются с их исходной национальной принадлежностью, о них как о еврейках ничего не говорится.
д). В Ваикра 24:10 говорится о том, что «и вышел сын одной израильтянки» (бен иша исраэлит), родившейся от Египтянина, к сынам Израилевым (бней исраэль), и поссорился в стане сын Израильтянки с Израильтянином». Т.е. при матери-еврейке и отце-нееврее, сын не называется евреем и дважды противопоставляется евреям (сынам Израиля), что опровергает наличие принципа матрилинеарности во время написания книги Ваикра, и свидетельствует в пользу патрилинеарности или же о нееврейском статусе детей в смешанных браках.
е). Часто истоки матрилинеарности возводят к Эзре (середина 5 в. до н.э.) , который постановил выгнать нееврейских жен с их детьми (Эзра 10:10-11). Однако в краткой покаянной молитве речь у Эзры идет вообще о запрете смешанных браков
(«Итак дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших» 9:12).
Почему же дальше выделяются только женщины-иноплеменницы? Дело в том, что женщины обычно жили в семье мужа (т.н. patrilocus). Соответственно, при смешанных браках женщины-нееврейки жили в еврейских семьях и подлежали юридическим законам евреев. А вот женщины-еврейки, выходившие замуж за нееврея, обычно жили в его семье, принимали его религию и не подлежали юридическим законам иудаизма, и Эзра хлопотать об их судьбе уже никак не мог, поэтому и не упоминает. Таким образом, Эзра настаивает на запрете смешанных браков вообще, но принцип матрилинеарности здесь никак не фигурирует.
II. Эллинистическая эпоха
а) Никаких упоминаний о матрилинеарности в литературе этого периода нет. В апокрифических книгах Юбилеев, Завет Иуды, Завет Иосифа упоминаются многочисленные случаи браков с нееврейками, без всяких выводов – откуда вытекает незнакомство с матрилинеарным принципом. Более того, есть обратные свидетельства. Так, в кн. Юбилеев история с изнасилованием Дины рассматривается в контексте запрета вообще смешанных браков, но с упором на невозможность еврейкам выходить замуж за неевреев, а в позднейших раввинистических текстах наоборот: мужчина, вступивший в связь с нееврейкой, воспитывают сыновей «для идолоклонства» (М.Мегилла 4:9, Мегилла 25а).
б) Согласно очень важному историческому источнику, новозаветному тексту из Деяний Апостольских 16:1-3,
«И вот, там был некоторый ученик, именем Тимофей, которого мать была Иудеянка уверовавшая, а отец Еллин… Его пожелал Павел взять с собою; и, взяв, обрезал его ради Иудеев, находившихся в тех местах; ибо все знали об отце его, что он был Еллин».
Иначе говоря, Тимофей, сын еврейки и грека, евреем не считался – ему пришлось проходить гиюр.
в) Иосиф Флавий полагал, что дети мужчины-еврея и нееврейки – евреи (Иудейские древности 18:104 и т.д.).
г) Филон Александрийский называет ребенка от смешанного брака незаконнорожденным (нотос), независимо от того кто в семье еврей (Жизнь Моисея 2:193). При этом среди плодов промискуитетных отношений и бастардов, которые вышли из Египта, Филон упоминает тех,
«кто рожден еврейским отцом от египетской женщины, и которые причислялись к народу отца». (1:147) – т.е. считались евреями при матери-нееврейке.
Рабби Акива, один из значительных таннаев, вдохновитель восстания Бар-Кохбы
III. Талмудический период
Как указывалось выше, в этот период утверждается принцип матрилинеарности, но далеко неоднозначно:
а) В уже упоминавшемся выше стихе Ваикра 24:10 слово «в стане» Сифра Ваикра (датируемая 4 в. н.э.) комментирует как «обратился в иудаизм». Но как сын еврейки мог обратиться в иудаизм, если он уже «автоматически» еврей, согласно Гемаре? Насколько мне известно, средневековые комментаторы, в том числе Нахманид задавались этим вопросом, но убедительного толкования так и не дали. Возможно, установление Гемары появилось уже после составления Сифра Ваикра, т.е. уже после 4-5 в. н.э.
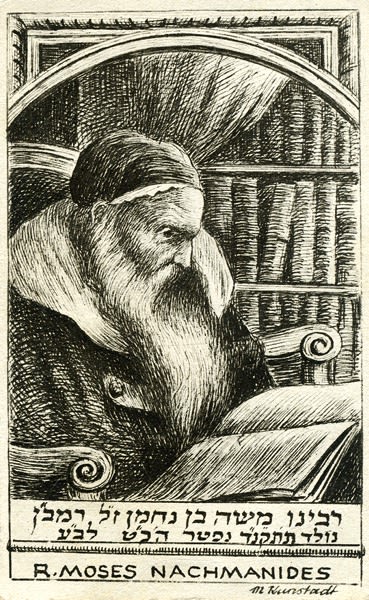
Моше бен Нахман (Нахмонид, Рамбан)
б) Согласно истории, изложенной в Авот рабби Натан (версия А, гл. 16), Р.Цадок из Рима отказался провести ночь с предложенной ему женщиной, поскольку боялся, что она «умножит мамзеров в Израиле». Т.е. от еврея и нееврейки рождаются хотя и незаконнорожденные, но евреи.
в) В Иерусалимском Талмуде и Берейшит Рабба 7:2 приводится история, как рабби Яаков из Кефар-Нибурая разрешил в Тире обрезать младенца, рожденного от нееврейки, в субботу. Рабби Аггай услышав это, сказал, «тебя надо высечь». На вопрос рава Яакова:
«А разве того, кто цитирует Писание, надо наказывать?» следует ответный вопрос рабби Аггая: «А что же это за такое Писание? «. Рабби Яаков как раз цитирует Бемидбар 1:18 «И объявили они родословия свои домам отцов их» (ле бейт авотем)»,
т.е. отстаивает принцип патрилинеарности. Лишь после жесткой отповеди рабби Аггая, сославшегося на постановление Эзры, он сменил мнение. Этот текст еще раз подтверждает, что в 4-5 в. (когда был составлен Мидраш Берейшит, несколько позже Иерусалимского талмуда), споры насчет матрилинеарности еще велись.
г.) Сама знаменитая формула рабби Шимона «Твой сын от израильтянки назван «твоим сыном», а твой сын от нееврейки назван не «твоим сыном», а «ее сыном», и заложившая принцип матрилинеарности, строится на аномалии интерпретируемого текста Дварим 7:3-4:
«и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от Меня».
По отношению к «соблазнителю» в Торе буквально сказано «ибо он отвратит (ки ясир)». Но с учетом предыдущей фразы, такое буквальное прочтение противоречит логике («он отвратит сынов твоих от Меня»). Сына может отвратить только «она» или «они» (в Синодальном переводе так и стоит «они», в других переводах – «сыны» в обобщающем значении слова «община», а в переводе Гурфинкель просто «отвратит»). В итоге рабби Шимон и интерпретирует «он» как «она» и на этом строит свой матрилинеарный вывод. Почему он не интерпретировал «он», например, как «они», а «сынов твоих» – как всю общину Израиля (сынов и дочерей) и тем самым не построил базу для нынешней критики смешанных браков вообще – это уже другой вопрос.
г) Мне встречалось упоминание, что и в позднем средневековье имелось раввинистическое мнение, что еврейское происхождение обусловлено только обоими еврейскими родителями, но мне эти тексты неизвестны. В любом случае, эта линия была побочной, а принцип матрилинеарности утвердился.
Вывод.
До талмудического периода концепции матрилинеарности однозначно не существовало, а еще в талмудический период (4-5 вв. н.э.) еще не устоялась и вызывала споры. Возможно, при обсуждении вопросов о гиюре и еврейства по отцу, и при развитии галахи эти исторические соображения можно учесть.
Источник Юрий Табак
Изобретение традиции: традиция горцев Шотландии
Шотландцы, собираясь в наши дни на праздники своей культурной идентичности, используют вещи из символического национального ряда. Прежде всего это тартановый килт, чей цвет и рисунок указывает на их «клан»; если же они намереваются помузицировать, то играть будут на волынке. Эти атрибуты, истории которых приписывают много лет, на самом деле весьма современны. Они были разработаны после – а иногда и гораздо позже – Унии с Англией 1707 года, против которой шотландцы в той или иной форме протестуют. До Унии некоторые из этих специальных предметов одежды существовали; однако большинство шотландцев считали их приметами варварства, атрибутом грубых, ленивых, хищных горцев, бывших скорее помехой, нежели реальной угрозой, цивилизованной исторической Шотландии. И даже в горах (Highlands[2]) эти предметы одежды были относительно мало известны, они не считались отличительным признаком горца.
На самом деле, сама концепция особой горской культуры и традиции – изобретение ретроспективное. До конца XVII века шотландские горцы не образовывали отдельного народа. Они были просто потомками переселившихся сюда ирландцев. На этом изломанном и негостеприимном берегу, на близлежащем архипелаге, море скорее объединяет, чем разделяет, и с конца V века, когда скотты из Ольстера высадились в Аргайле, и до середины XVIII века, когда эта земля была «открыта» после якобитских восстаний, запад Шотландии, отрезанный горами от востока, всегда был ближе к Ирландии, чем к равнинам (Lowlands) саксов. По своему происхождению и культуре это была ирландская колония. […]
В XVIII веке острова на западе Шотландии продолжали быть в какой-то степени ирландскими, и гэльский язык, на котором там говорили, описывался как ирландский. Будучи обитателями как бы «заморской Ирландии», но под управлением «иностранной» и в чем-то неэффективной шотландской короны, жители горных и островных регионов Шотландии испытывали культурное унижение. Их литература была грубым эхом ирландской. Барды при дворах шотландских вождей приходили из Ирландии или ездили туда изучать свое ремесло. Один писатель начала XVIII века, ирландец, рассказывает, что шотландские барды – мусор Ирландии, ради очищения страны периодически выметаемый в эту глухомань[3]. Даже под гнетом Англии в XVII–XVIII веках кельтская Ирландия оставалась самостоятельной культурно-исторической нацией, а кельтская Шотландия была в лучшем случае ее бедной сестрой. И у нее не было своей независимой традиции.
Создание независимой «горской традиции» и перенесение этой новой традиции, с ее опознавательными знаками на всех скоттов, было работой конца XVIII – начала XIX века. Это происходило в три этапа. Сперва возник культурный бунт против Ирландии: апроприация ирландской культуры и переписывание ранней скоттской истории, завершившееся нескромной претензией на то, что Шотландия, кельтская Шотландия, – «материнская нация», а Ирландия – ее культурная колония. Во-вторых, искусственно были созданы новые «горские традиции», представленные как древние, изначальные и особые. В-третьих, был запущен процесс, при помощи которого новые традиции были предложены и приняты исторической равнинной областью, восточной Шотландией пиктов, саксов и нормандцев.
Первый из этих этапов был завершен в XVIII веке. Утверждение о том, что кельтские, говорящие по-ирландски, «горцы» (Highlanders) Шотландии являлись не просто выходцами из Ирландии V века, а представителями древней культуры – каледонцами, что сопротивлялись еще римской армии, конечно, было древней легендой, сослужившей и в прошлом хорошую службу. В 1729 году она была отвергнута первым и величайшим из шотландских антиквариев, священником и якобитом-эмигрантом Томасом Иннесом. Но в 1738 году ее вновь подтвердил Дэвид Малколм[4], а более убедительно – в 1760 годах два литератора с одинаковой фамилией: Джеймс Макферсон, «переводчик» Оссиана, и преподобный Джон Макферсон, священник из Слита на острове Скай.
Эти два Макферсона, хотя и не были родственниками, но знали друг друга: Джеймс Макферсон останавливался у священника во время поездки на Скай в поисках «Оссиана» в 1760 году, а сын священника, впоследствии сэр Джон Макферсон, генерал-губернатор Индии, был позже близким другом поэта – и они даже работали вместе. Вот так, вдвоем, при помощи двух откровенных подделок, они и создали «местную» литературу кельтской Шотландии, а в качестве необходимой подпорки – ее историю. И эта литература, и эта история – там, где они вообще имели отношение к реальности, – были украдены у ирландцев.
Беспримесная наглость Макферсонов вызывает искреннее восхищение. Джеймс Макферсон собрал в Шотландии несколько ирландских баллад, составил из них «эпос», действие которого полностью перенес из Ирландии в Шотландию, а затем отверг настоящие баллады, опорочив их как испорченные современные выдумки, а настоящую ирландскую литературу, в которой они нашли отражение, – как низкое подражание. Затем священник из Слита написал «Критическую диссертацию» («Critical Dissertation»), которой обеспечил необходимый контекст «кельтскому Гомеру», «открытому» его однофамильцем: он поместил говорящих по-ирландски кельтов в Шотландию на четыре столетия раньше их исторического появления там и объявил подлинную ирландскую литературу украденной некими безнравственными ирландцами у невинных скоттов в «темные века». В довершение всего сам Джеймс Макферсон, используя исследование священника, написал «независимое» «Введение в историю Великобритании и Ирландии» («Introduction to the History of Great Britain and Ireland», 1771), где повторил его утверждения. Ничто так не свидетельствует о большом успехе Макферсонов, как то, что им удалось сбить с толку осторожного и критичного Эдуарда Гиббона, назвавшего этих «двух ученых горцев» своими «проводниками», закрепив тем самым то, что позднее было справедливо названо
«цепью ошибок шотландской истории»[5].
Потребовался целый век, чтобы очистить шотландскую историю (если можно считать, что ее действительно очистили) от искажений и выдумок, произведенных двумя Макферсонами. Между тем эти два наглеца наслаждались победой: им удалось поместить шотландских горцев на карту страны. До того одинаково презираемые равнинными шотландцами как буйные дикари, а ирландцами – как неграмотные бедные родственники, они теперь были приняты всей Европой как Kulturvolk, народ, который в то самое время, когда Англия и Ирландия были погружены в первобытное варварство, уже выдвинул из своих рядов эпического поэта изысканной утонченности, равного Гомеру или даже превосходящего его. Но горцы привлекли внимание Европы не только своей литературой. Как только оборвались их связи с Ирландией, а горная Шотландия приобрела – хоть и с помощью подлога – независимую древнюю культуру, возник способ возвестить об этой независимости с помощью специальных традиций. И традиция, которая тогда установилась, касалась особенностей гардероба.

Оссиан. Несмотря на полное убеждение в подложности «поэм», его влияние чувствовалось до середины 19 века
В 1805 году сэр Вальтер Скотт написал об «Оссиане» Макферсона эссе в «Edinburgh Review». Там он выказал характерную для него ученость и здравый смысл. Он решительно отверг подлинность эпоса, которую продолжали защищать как шотландский литературный истеблишмент, так и сами горцы. Но в том же эссе он (в скобках) отметил, что древние каледонцы, без всяких сомнений, уже в III веке носили «килт из тартана» (a tartan philibeg). В столь рациональном и критическом эссе подобное уверенное утверждение удивляет. Никогда прежде никто подобной претензии не выдвигал. Даже Макферсон этого не предполагал: его Оссиан всегда был представлен в развевающемся плаще (robe), а его инструментом, кстати, всегда была не волынка, а арфа. Но Макферсон сам был горцем и на поколение старше Скотта. В такого рода делах это многое значит.
Когда же современный килт, tartan philibeg, стал костюмом горца? Факты говорят об этом совершенно однозначно, особенно после публикации блестящей работы Телфера Данбара[6]. Если «тартан», то есть ткань, сплетенная из цветных нитей с геометрическим узором, был известен в Шотландии в XVI веке (вероятно, он возник во Фландрии, распространившись сначала на шотландской равнине, а потом в горах), то «килт» (philibeg) – и название, и сама вещь – оставался неизвестным до XVIII века. Отнюдь не являясь традиционным нарядом горцев, он был изобретен англичанами после Унии 1707 года; а различающиеся узором и цветом «клановые тартаны» – еще позднее. Они стали частью церемонии, разработанной сэром Вальтером Скоттом в честь визита в Эдинбург английского короля из ганноверской династии. Так что своей формой и расцветкой клановые тартаны обязаны двум англичанам.
Поскольку шотландские горцы по своему происхождению были ирландцами, просто переместившимися с одного острова на другой, естественно предположить, что и их изначальное одеяние было таким же, как у ирландцев. И действительно, именно это мы и обнаруживаем. Авторы вообще замечают наряды горцев только в XVI веке, но в то время все они единодушно показывают, что обычная одежда горцев состояла из длинной «ирландской» рубахи (leine на гэльском), которую высшие классы – как и в Ирландии – красили шафраном; туники, или failuin; и плаща, или plaid, который у высших классов был разноцветным или полосатым, а у простолюдинов коричневым и красновато-коричневым, защитного цвета, подходящего для жизни у болот. […]
На поле боя вожди носили кольчугу, а низшие классы стеганую льняную рубаху, покрытую смолой и оленьими шкурами. Кроме этого обычного наряда, вожди и вельможи, вошедшие в контакт с более изысканными обитателями равнин, могли носить «труз» (trews): сочетание бриджей с чулками. Эти «труз» можно было носить в горах только на свежем воздухе и только людям, у которых есть слуги, чтобы те возили «труз» за хозяином: следовательно, они были знаком социального отличия. И «плед», и «труз», вероятно, делались из тартана. […]
В XVII веке армии горцев участвовали в гражданских войнах в Британии, и всегда, судя по описаниям, мы видим, что офицеры носят «труз», а простые солдаты оставляют ноги и бедра голыми. И офицеры, и солдаты носили «плед», но первые как верхнюю одежду, а последние полностью покрывали им тело, подпоясывая на талии, так, что нижняя часть под поясом образовывала вид юбки. В такой форме это было известно как breacan, или «подпоясанный плед». Тут важно, что не было ни одного упоминания «килта», каким мы его знаем. Выбор был исключительно между «труз» джентльмена и «народным» «подпоясанным пледом»[7].
Название «килт» впервые появляется через двадцать лет после Унии. Эдвард Бёрт, английский офицер, посланный к генералу Уэйду в Шотландию главным землемером, написал из Инвернесса несколько писем о характере и обычаях страны. В них он дал тщательное описание quelt, который, как он объяснял, является не отдельным нарядом, а просто особым способом ношения
«пледа, собранным в складки и подпоясанным на талии, чтобы получилась короткая юбка, закрывающая бедра до половины; остальная часть закидывается на плечи и застегивается там… так, что получается очень похоже на бедных женщин Лондона, когда они задирают подол платья на голову, желая укрыться от дождя»[8]. […]
После якобитского восстания 1715 года британский парламент рассматривал предложение законодательно запретить это одеяние – точно так же, как ирландский наряд был запрещен при Генрихе VIII: думали, что это поможет сломить особый горский образ жизни и интегрировать горцев в современное общество. Однако закон не прошел. Было признано, что горское одеяние удобно и необходимо в стране, где путешественник вынужден «скакать по горам и болотам и ночевать на холмах». […] Есть особая ирония в том, что если бы горский наряд был запрещен после 1715-го, а не 1745 года[9], то килт, который сейчас считается одной из древних традиций Шотландии, вероятно, так и не появился бы. А возник он через несколько лет после писем Бёрта и очень близко к тому месту, откуда он их посылал. Неизвестный в 1726 году, килт вскоре неожиданно появился и к 1746 году утвердился настолько, чтобы быть ясно названным в том парламентском акте, который все же запретил горский наряд. Изобретателем килта был английский квакер из Ланкашира Томас Роулинсон.
Семейство Роулинсонов давно занималось изготовлением железных изделий в Фёрнессе. […] Однако со временем объемы поставляемого угля стали снижаться, и в качестве топлива Роулинсонам потребовался лес. По счастью, после подавления восстания 1715 года горы открыли для предпринимателей, и промышленность юга смогла эксплуатировать леса на севере. Поэтому в 1727 году Томас Роулинсон заключил соглашение с Йеном Макдонеллом, главой клана Макдонеллов из Гленгарри близ Инвернесса, о 31-летней аренде лесистой области в Инвергарри. Он поставил там печь и плавил железную руду, которую привозил специально из Ланкашира. Предприятие оказалось экономически невыгодным: его свернули семь лет спустя; но за эти семь лет Роулинсон хорошо узнал местность, и установил регулярные отношения с Макдонеллами из Гленгарри, и, конечно, нанимал «толпу горцев», чтобы валить деревья и работать у печи[10].
За время своего пребывания в Гленгарри Роулинсон заинтересовался горским костюмом и узнал о его неудобстве. Подпоясанный плед годился для праздной жизни: ночевок на холмах или бродяжничества по болотам. Он был дешев, и все соглашались, что низшие классы не могут себе позволить штанов. Но для людей, которые валят лес или присматривают за печью, это было «стесняющее и неудобное одеяние». […] Роулинсон послал за портным из полка, расквартированного в Инвернессе, и с ним вместе придумал, как
«укоротить платье и сделать его удобным для работников».
Результатом стал the felie beg, или «малый килт», который получился так: юбку отделили от «пледа», и она превратилась в отдельный наряд с уже подшитыми складками. Роулинсон сам носил это новое одеяние, и его примеру следовал его партнер Йен Макдонелл из Гленгарри. После этого члены клана, как обычно, последовали за своим вождем, и нововведение, как указывается,
«было сочтено столь удобным, что за короткое время было принято во всех горных землях, а также на многих северных равнинах»[11].
Эта история о происхождении килта впервые была рассказана в 1768 одним горским джентльменом, лично знавшим Роулинсона. В 1785-м история была опубликована, не вызвав никаких возражений. Ее подтвердили два тогдашних величайших авторитета по шотландским обычаям[12] – и, отдельно, свидетели из семейства Гленгарри[13]. Эту историю никто не стал опровергать еще сорок лет. Ее вообще никогда не опровергали. Все свидетельства, которые накопились с тех пор, с ней совершенно согласуются. […] Таким образом, мы можем заключить, что килт был костюмом Нового времени, впервые придуманным английским промышленником-квакером, и что тот надел его на горцев не для того, чтобы сохранить их традиционный образ жизни, а для того, чтобы его преобразить: вытащить горцев из болота и затащить на фабрику.
Но если таково происхождение килта, то немедленно возникают следующие вопросы: из какого тартана был сделан килт квакера […], были ли в XVIII веке особые «наборы» цветов (setts) и когда началось различение кланов по узорам?
Авторы XVI века, первыми заметившие горское одеяние, явно не знали таких различений. Они описывали «пледы» вождей как цветные, а у их соплеменников как коричневые, так что любое различение цвета тогда было социальным, а не клановым. […] Портреты одного семейства Макдональдов из Армадейла демонстрируют по крайней мере шесть разных «наборов» тартана, а свидетельства, современные восстанию 1745 года – будь то живописные, портняжные или литературные, – не показывают различения кланов по узорам или какой-либо их повторяемости. […] Выбор тартана был делом частного вкуса или необходимости[14].
Таким образом, когда разразилось великое восстание 1745 года, килт, как мы его знаем, был недавним английским изобретением, а «клановые» тартаны еще не существовали. Однако восстание знаменует перемену в портновской, равно как социальной и экономической, истории Шотландии. После подавления восстания британское правительство решило наконец осуществить то, что замышляло в 1715 году (и даже раньше), и окончательно разрушить независимый образ жизни горцев. Согласно различным парламентским актам, последовавшим за победой при Куллодене, горцев не только разоружили и лишили их вождей наследственной юрисдикции, но ношение горского одеяния
– «пледа, филибега, труз, плечевой портупеи… из тартана или частично окрашенного пледа или ткани»
– было запрещено по всей Шотландии под страхом тюремного заключения на 6 месяцев без освобождения под залог, а при повторном нарушении – под угрозой высылки на 7 лет. Этот драконовский закон оставался в силе 35 лет, во время которых весь горский образ жизни был уничтожен. […] К 1780 году горский наряд казался окончательно вымершим, и никакой разумный человек не думал о его возрождении.
Однако история нерациональна или, по крайней мере, рациональна лишь частично. Горский костюм действительно исчез для тех, кто привык его носить. Прожив целое поколение в штанах, простые крестьяне из горной Шотландии не видели причин возвращаться к подпоясанному пледу или тартану, который они когда-то находили таким дешевым и практичным. Они даже не обратились к «удобному» новому килту. А вот высший и средний классы, которые прежде презирали «холопские» атрибуты, теперь с энтузиазмом обратились к наряду, отброшенному его традиционными носителями. В те годы, когда он был запрещен, некоторые горские вельможи с удовольствием его надевали и даже позировали в нем дома для портретов. Затем, когда запрет был снят, мода на это одеяние расцвела. Англизированные шотландские пэры, богатеющее джентри, образованные эдинбургские адвокаты и благоразумные абердинские купцы – люди, не стесненные бедностью, никогда не вынуждаемые скакать по горам и болотам, ночевать на холмах, – выставляли себя напоказ не в исторических «трузах», традиционном костюме своего класса, не в нескладном подпоясанном пледе, но в дорогой и причудливой версии этого недавнего нововведения – в «филибеге» или малом килте.
У этой замечательной перемены были две причины. Одна – общеевропейская: движение романтизма, культ благородного дикаря, которого цивилизация грозит уничтожить. До 1745 года горцев презирали как праздных и хищных варваров. В 1745-м их боялись как опасных бунтовщиков. Но после, когда их уникальное сообщество было столь легко разрушено, горцы воплотили в себе сочетание романтизма первобытного племени с обаянием вымирающего вида. Именно в обществе, где господствовали подобные настроения, Оссиана и ждал триумф. Вторая причина была особая и заслуживает подробного рассмотрения. Это было формирование по приказу британского правительства горских полков (Highlanders).
Образование горских полков началось еще до 1745 года. Самый первый, «Черный дозор» (Black Watch), впоследствии просто 43-й, а затем 42-й линейный полк, бился при Фонтенуа в 1745-м[15]. Но именно в 1757–1760 годах Питт-старший[16] принялся систематически отвлекать боевой дух горцев от якобитских авантюр, направляя их на имперские войны. […]
Горские полки вскоре покрыли себя славой в Индии и Америке. Они также установили новую костюмную традицию. По «Акту о разоружении» 1746 года на горские полки не распространялся запрет на ношение их наряда, и поэтому те 35 лет, что кельтские крестьяне привыкали к саксонским штанам, а кельтский Гомер изображался в плаще барда, именно горские полки в одиночку удерживали на плаву индустрию производства тартана и обеспечили долговечность самому недавнему из всех нововведений – ланкаширскому килту.
Изначально горские полки носили в качестве формы подпоясанный «плед»; но, как только был изобретен килт – а его удобство было признано и сделало его популярным, – он был принят. Более того, вероятно, именно благодаря этим подразделениям родилась идея различать тартан по кланам; ведь число горских полков росло, и их тартанная форма должна была содержать отличия. Когда же право на ношение тартана возвратилось к гражданским лицам и романтическое движение поддержало культ клана, те же принципы различения легко были перенесены с полка на клан. Но это все произойдет в будущем. Пока нас интересует лишь килт, который, будучи изобретен английским промышленником-квакером, затем был спасен от вымирания английским государственным деятелем-империалистом. Следующей стадией стало изобретение для него шотландской родословной.
Все началось с важного шага, предпринятого в 1778 году – с основания в Лондоне Горского общества (Highland Society), чьей главной функцией было поощрение древних горских добродетелей и сохранение древних горских традиций. Его члены состояли из представителей знатных фамилий горной Шотландии и офицеров, но его секретарем, «чьему рвению Общество особенно обязано своими успехами», был Джон Маккензи – адвокат из лондонского Темпла, а также «самый близкий и доверенный друг», сообщник, деловой партнер и впоследствии душеприказчик Джеймса Макферсона. И Джеймс Макферсон, и сэр Джон Макферсон были в числе первых членов Общества, одним из величайших достижений которого, по мнению его историка сэра Джона Синклера, стала публикация в 1807 году «оригинального» текста Оссиана на гэльском. Этот текст был взят Маккензи из бумаг Макферсона и опубликован вместе с диссертацией, удостоверяющей его подлинность и написанной самим Синклером. Ввиду двойной функции Маккензи и поглощенности Общества литературой на гэльском (которая почти вся была или произведена, или вдохновлена Макферсоном), все предприятие можно рассматривать как одну из операций мафии Макферсонов в Лондоне.
Второй и не менее важной целью Общества было обеспечить отмену закона, запрещающего носить горский наряд в Шотландии. Ради достижения этой цели члены Общества постановили сами встречаться (что они законно могли делать в Лондоне)
«в этом столь прославленном наряде, который носили их кельтские предки, и по таким случаям говорить выразительным языком, слушать усладительную музыку, читать древнюю поэзию и соблюдать оригинальные обычаи своей земли»[17].
Стоит заметить, что даже тогда горский наряд не включал килт: правилами Общества он был определен как «труз» и подпоясанный «плед» («плед и филибег в одном»). Главная цель была достигнута в 1782 году, когда маркиз Грэхем по просьбе комитета Горского общества продвинул отзыв акта в Палате общин. Отмена вызвала ликование в Шотландии, гэльские поэты увековечили победу кельтского подпоясанного пледа над штанами саксов. С этого момента и начался триумф только что переопределенного горского наряда.
К тому времени горские полки уже перешли на «филибег», и их офицеры легко убедили себя, что этот короткий килт и является национальной одеждой Шотландии с незапамятных времен. Когда в 1804 году военное министерство рассматривало замену килта на «труз», офицеры отозвались на это соответствующим образом. Полковник Камерон из 79-го полка был в ярости. Уж не хочет ли верховное командование, вопрошал он, действительно прекратить «свободную циркуляцию чистого и полезного воздуха» под килтом, «столь удивительно приспособленного горцами для физических упражнений?»[18]. […] Под таким вдохновенным натиском министерство ретировалось, и именно солдаты британских горских полков в килтах после окончательной победы над Наполеоном в 1815 году захватили воображение и пробудили любопытство Парижа. […]
Между тем миф о древности этого наряда активно распространялся другим военным. Им был полковник Дэвид Стюарт из Гарта, начавший службу в 42-м полку в возрасте шестнадцати лет и проведший всю взрослую жизнь в армии, в основном за границей. Как офицер, с 1815 года служивший на полставки, он посвятил себя изучению истории первых горских полков, а затем также жизни и традициям «гор»: традициям, которые он, вероятно, чаще открывал для себя в офицерских столовых, нежели в долинах и гленах Шотландии. Эти традиции теперь включали и килт, и клановые тартаны, что было принято полковником без сомнений. […] Он заявил, что тартаны всегда плелись с
«особым узором (или “набором”, как они их называли) разными кланами, племенами, семьями и округами».
Ни одно из этих заявлений он не сопроводил доказательством. Они появились в 1822 году в его книге «Заметки о характере, образе жизни и нынешнем состоянии горцев Шотландии» («Sketches of the Character, Manners and Present State of the Highlanders of Scotland»). Эта книга, как считается, и стала основой всех последующих работ о кланах.
Стюарт продвигал «горское дело» не только с помощью печатного станка. В январе 1820 года он основал Кельтское (Celtic) общество Эдинбурга: общество «юных гражданских лиц», первой целью которого было «поощрять общее использование древнего горского наряда в горах» – и делать это путем его ношения в Эдинбурге. Президентом Общества был сэр Вальтер Скотт, выходец с равнинной части Шотландии. Члены Общества регулярно собирались на ужин,
«в килтах и беретах по старинной моде и вооруженные до зубов».
Сам Скотт на таких встречах носил «труз», но объявлял, что он «очень доволен чрезвычайным энтузиазмом гэлов (the Gael), когда они освобождаются от рабства штанов».
«Подобных прыжков, скачков и крика вы никогда не видели»,
– писал он после одного такого обеда[19]. Таковы были последствия – даже в чопорном Эдинбурге – свободной циркуляции чистого и полезного воздуха под горским килтом.
Таким образом к 1822 году, во многом стараниями сэра Вальтера Скотта и полковника Стюарта, «горский переворот» уже начал осуществляться. Особенный размах он приобрел именно в этот год, благодаря официальному визиту короля Великобритании Георга IV в Эдинбург. Монарх из ганноверской династии в первый раз прибывал в столицу Шотландии, и, чтобы обеспечить успех визита, были сделаны тщательные приготовления. Нас здесь интересует личность того, кто отвечал за эти приготовления. Ведь мастером церемоний, взявшим на себя решение всех практических вопросов, был сэр Вальтер Скотт; своим ассистентом он назначил полковника Стюарта из Гарта; почетный караул, которому Скотт и Стюарт поручили охрану королевской особы, государственных чиновников и регалий Шотландии, состоял из «энтузиастов филибега», членов Кельтского клуба, «одетых в соответствующий наряд». Результатом стала причудливая карикатура на шотландскую историю и реальность. Взятый в оборот своими фанатичными кельтскими друзьями, Скотт, судя по всему, решил забыть и историческую Шотландию, и свои родные равнины. Королевский визит, объявил он, будет «собранием гэлов». И поэтому стал требовать от горских вождей, чтобы те явились со «свитой своих соплеменников отдать дань уважения королю»[20]. Горцы исправно явились. Но какие тартаны им было нужно надеть?
Идея различающихся по кланам тартанов, столь разрекламированная Стюартом, видимо, пришла от находчивых производителей мануфактуры, которые на протяжении 45 лет не имели никаких клиентов, кроме горских полков, но с 1782-го – года отмены акта – надеялись на расширение рынка. Самой крупной была компания «Уильям Уилсон и сын» из Баннокберна. Господа Уилсон и сын углядели выгоду в создании целой линейки тартанов, различающихся по кланам, дабы стимулировать конкуренцию между ними, для чего и вступили в альянс с Горским обществом Лондона, предложившим для их коммерческого проекта исторически респектабельный плащ или «плед». В 1819 году, когда идея королевского визита только возникла, фирма приготовила «Книгу основных узоров» («Key Pattern Book») и послала различные тартаны в Лондон, где Общество исправно их «сертифицировало» как принадлежащие тому или иному клану. Впрочем, когда дата визита была уже подтверждена, времени для подобной педантичности не осталось. Наплыв заказов оказался таким, что «любой кусок тартана продавался, едва сходя со станка». В таких обстоятельствах первой обязанностью фирмы стало поддержание бесперебойных поставок товаров и обеспечение широкого выбора для горских вождей. Поэтому Клюни Макферсон, наследник первооткрывателя Оссиана, получил первый попавшийся тартан. В его честь данный тартан был назван «Макферсон», но незадолго до этого большую партию таких же «филибегов» продали мистеру Кидду, чтобы одеть его вест-индских рабов, и тогда он назывался «Кидд», а еще прежде – просто «№ 155».
Таким образом, столица Шотландии «тартанизировалась», чтобы встретить своего короля, который прибыл в таком же костюме, сыграв свою роль в кельтской процессии, а в апогее визита торжественно пригласил собравшуюся знать выпить, но не за подлинную или историческую элиту, а за «вождей кланов Шотландии». Даже преданный зять и биограф Скотта – Дж.Дж. Локкарт – был ошарашен этой коллективной «галлюцинацией», в которой, как он выразился, «знаменующими и венчающими Шотландию славой» были признаны кельтские племена, «всегда составлявшие малую и почти всегда неважную часть шотландского населения»[21]. […]
Фарс 1822 года придал новый импульс индустрии тартана и вдохновил на новую фантазию. Таким образом, мы переходим к последней стадии создания горского мифа: к реконструкции и распространению в призрачной и портняжной форме клановой системы, чья реальность была разрушена после 1745 года. Основными фигурантами этого эпизода были два самых изворотливых и обольстительных персонажа, которые когда-либо усаживались на кельтскую «лошадку» или ведьмовскую метлу, – братья Аллен.
Братья Аллен происходили из семьи морских офицеров с хорошими связями. […] Оба были талантливы во многих видах художеств. […] Все, за что бы они ни брались, они делали тщательно и со вкусом. Обстоятельства их первого появления в Шотландии не известны, но они явно были там со своим отцом во время королевского визита 1822 года, а может быть, и раньше – скажем, в 1819-м. Годы с 1819-го по 1822-й были посвящены подготовке к визиту. Именно тогда фирма «Уилсон и сын» из Баннокберна обдумывала номенклатуру тартанов для горских кланов, а Горское общество Лондона рассматривало идею публикации роскошно иллюстрированной книги об узорах на шотландских юбках. Есть повод думать, что семья Алленов в это время находилась в контакте с «Уилсон и сын».
В последующие годы братья «шотландизировали» свою фамилию, превратив ее сначала в Аллан (Allan), потом – через Хэй Аллан (Hay Allan) – просто в Хэй. Братья поощряли слухи о том, что происходят от последнего носителя этой фамилии – эрла Эррола. […] Большую часть времени братья проводили на далеком севере, где эрл Морэй дал им в пользование лес Дарнавэй, став знатоками оленьей охоты. Недостатка в покровителях-аристократах у них не было никогда. Практичные честолюбцы с равнин тоже попадались на их удочку. Таким был сэр Томас Дик Лаудер, которому в 1829 году они открыли, что владеют важным историческим документом. То была рукопись, которая (по их словам) некогда принадлежала Джону Лесли, епископу Росса, конфиденту Марии, королевы шотландцев, и которую их отцу передал не кто иной, как «молодой претендент», «принц Чарли». Рукопись называлась «Vestiarium Scoticum», или «Гардероб Шотландии», содержала в себе описания клановых тартанов шотландских семей и якобы была творением рыцаря, сэра Ричарда Уркухарта. Епископ Лесли пометил ее датой «1571», но рукопись могла быть и более древней. Братья объяснили, что оригинальный документ находится у их отца в Лондоне, но показали Дику Лаудеру «грубую копию», которая досталась им от семьи Уркухарт из Кроматри. Сэр Томас был очень взволнован этим открытием. Документ был не только важен сам по себе, но и являлся подлинным и древним авторитетным источником по различным клановым тартанам, а также удостоверял, что тартаны использовали жители равнин, так же, как и гор. […] Сэр Томас сделал транскрипт текста, который младший из братьев почтительно украсил иллюстрациями. Затем он написал сэру Вальтеру Скотту, чей голос был для него в таких вопросах голосом оракула. […] Царственная репутация Скотта не поколебалась под таким напором, он не поддался; и сама история, и содержание рукописи, и характер братьев – все показалось ему подозрительным[22]. […]
Посрамленные авторитетом Скотта, братья удалились обратно на север, где постепенно улучшали свой имидж, свои знания и свою рукопись. Они нашли нового покровителя, лорда Ловата, католического главу семьи Фрезеров, чей предок умер на эшафоте в 1747 году. Они также выбрали новую религию, католичество, и новое, гораздо более величественное происхождение. Они отбросили фамилию Хэй и приняли королевскую, Стюарт. Старший брат назвался Джон Собески Стюарт (Ян Собесский, героический польский король, был прапрадедушкой «молодого претендента» по материнской линии); старший же стал, как и сам принц Чарли, Чарльзом Эдвардом Стюартом. От лорда Ловата они получили в дар Эйлин Эгас (Eilean Aigas), романтический особнячок на островке посреди Боли-ривер в Инвернессе, и устроили там миниатюрный двор. Они стали известны как «принцы», сидели на тронах, придерживались строгого этикета и получали королевские дары от посетителей, которым демонстрировали реликвии Стюартов и намекали на таинственные документы, лежащие в запертом сундуке. Над дверями дома был повешен королевский герб; когда братья плыли вверх по течению в католическую церковь в Эскдэйле, то над их лодкой развевался королевский штандарт; на их печати была корона. Именно в Эйлин Эгас в 1842 году братья наконец опубликовали свой знаменитый манускрипт, «Vestiarium Scoticum». Он появился в роскошном издании тиражом в 50 экземпляров. Впервые была опубликована серия цветных иллюстраций тартанов, что само по себе стало триумфом технического прогресса. […] Сам манускрипт, как указывалось, был «тщательно соединен» со вторым, недавно обнаруженным, неким ирландским монахом в испанском монастыре, увы, теперь закрытом. […]
Напечатанный столь малым тиражом, «Vestiarium Scoticum» остался почти незамеченным. […] Однако, как вскоре стало ясно, он был только предварительной документальной основой гораздо большего труда. Через два года братья опубликовали еще более роскошный том, результат многолетних штудий. Этот потрясающий фолиант, щедро проиллюстрированный самими авторами, посвящался Людвигу I, королю Баварии, «восстановителю католического искусства в Европе», и содержал обращение, на гэльском и на английском языках, к «горцам». Согласно титульной странице, он был отпечатан в Эдинбурге, Лондоне, Париже и Праге. Назывался он «Наряд кланов» («The Costume of the Clans»).
«Наряд кланов» – удивительный труд. С точки зрения одной только эрудиции он делает жалкими все предыдущие работы по той же теме. В нем цитируются секретные источники, шотландские и европейские, письменные и устные, рукописные и печатные. Он ссылается на артефакты и археологию так же, как на литературу. Полвека спустя один дотошный и ученый шотландский антиквар описывал его как «совершенное чудо усердия и дарования»[23]. […] Это труд – умный и критичный. Авторы признают современное изобретение килта (ведь они, в конце концов, останавливались у Макдонеллов из Гленгарри). Ничто из того, что они говорят, нельзя опровергнуть без подготовки. Но и доверять там ничему нельзя. Книга составлена из чистой фантазии и откровенных подделок. Литературные призраки всерьез призываются в авторитетные свидетели. Поэмы Оссиана используются как источники, активно цитируются туманные манускрипты… и, конечно же, сам «Vestiarium Scoticum» теперь уже твердо датируется «на основании внутренних свидетельств» концом XV века. Выполненные вручную иллюстрации представляют монументальные скульптуры и древние портреты. […]
«Наряд кланов» был не только произведением антикварной эрудиции, в нем так же содержался один важный тезис. Этот тезис был следующий: причудливый наряд горцев – лишь дошедшее до нас свидетельство универсального костюма Средних веков, повсеместно вытесненного из Европы в XVI веке, но сохранившегося в ее глухом уголке. […] Как и Пьюджин[24], стремившийся возродить не только готическую архитектуру, но и всю воображаемую цивилизацию, стоявшую за ней, «Собески-Стюарты» (как их обычно звали) стремились возродить не только горский наряд, но и всю воображаемую горскую цивилизацию. И они добились этого при помощи выдумки, столь же дерзкой, как «Оссиан», – да и пересмотр истории они затеяли столь же возмутительный.
К сожалению, «Наряд кланов» никогда не вызывал критики или даже внимания ученого мира. Еще до того, как это случилось, авторы совершили серьезную тактическую ошибку. В 1846 году они зашли настолько далеко, что открыто выразили претензию на королевскую кровь. Сделали они это в серии коротких рассказов, напечатанных под романтическими, но прозрачными псевдонимами; целью рассказов было явить историческую правду. Работа называлась «Повести столетия», ее хронологические рамки – сто лет, с 1745-го по 1845 год. Основным посланием этих «повестей» было то, что линия Стюартов не пресеклась. […]
И в этот момент нанес удар скрытый враг. Под видом запоздалого обзора «Vestiarium Scoticum» анонимный автор разместил в журнале «Quarterly Review» разрушительное разоблачение королевских претензий двух братьев[25]. Старший из них попытался ответить. Ответ был олимпийским по тону, но слабым по существу. Вся ученая работа двух братьев оказалась фатально скомпрометированной; хозяйство в Эйлин Эгас неожиданно развалилось, и последующие двадцать лет братья провели за границей, в Праге и Прессбурге. […] Собески-Стюарты никогда не оправились от разоблачения 1847 года. Несмотря на личное обаяние, добрый нрав и достойный, мягкий стиль общения, гарантировавший наличие многочисленных последователей, доводы из этой статьи в «Quarterly Review» отныне были против них. Но их труд не пропал зря. «Vestiarium Scoticum» подвергли сомнению, «Наряд кланов» проигнорировали и разработанные ими фальшивые цвета клановых тартанов, уже без связи с подмоченной репутацией братьев, были подхвачены Горским обществом Лондона и способствовали дальнейшему процветанию шотландской индустрии тартана. Более приземленным последователем взлетевших слишком высоко Собески-Стюартов был Джеймс Логан, добившийся весьма основательного триумфа.
Он родился в Абердине и в молодости пострадал от того, что сам называл «ужасной раной», участвуя в «горских игрищах». […] Травма не отбила охоты у Логана, ставшего энтузиастом горских традиций, и в 1831 году после длительного пешего путешествия по Шотландии он опубликовал книгу под названием «Шотландский гэл» («The Scottish Gael»), которую посвятил королю Вильгельму IV. В ней Логан повторил все недавние горские мифы: о подлинности поэм Оссиана, о древности килта, о различении тартанов по кланам, а также объявил, что сам «специально готовит работу с иллюстрациями о тартанах и знаках». К тому времени Логан обосновался в Лондоне, а Горское общество в признание его заслуг поспешно избрало его своим президентом и начало финансировать обещанную работу о тартанах. Сей труд появился лишь в 1843-м – год спустя после публикации «Vestiarium Scoticum». Она называлась «Кланы шотландских гор» («Clans of the Scottish Highlands»), была щедро иллюстрирована и содержала 72 изображения горцев в тартанах.
Вряд ли была прямая связь между Собески-Стюартами, с их подлинной эрудицией и аристократическим духом, и некритичным плебеем Джеймсом Логаном. Но Собески-Стюарты явно поддерживали контакты с производителями тартанов. […] Мы также знаем, что фирма «Уилсон и сын», величайший из производителей тартана, была в контакте с Логаном, которого воспринимала как своего служащего, порой позволяя себе править его работу. […] Скорее всего труд Логана во всем подпитывался, прямо или косвенно, фантазиями Собески-Стюартов. […] На самом деле, как было позже замечено, многие из тартанов Логана были «не содержащими указаний об авторстве воспроизведением дизайна из “Vestiarium Scoticum”»[26].
Логану повезло с выбором времени. Разоблачение королевских претензий Собески-Стюартов, подлинных изобретателей клановых тартанов, разрушило репутацию его конкурентов в тот момент, когда культ гор, сложившийся у королевы Виктории, дал новый импульс развитию клановых тартанов. […] В 1850 году были опубликованы сразу три книги о тартанах, и все они были в молчаливом долгу перед «Vestiarium Scoticum». […] Оставшуюся часть столетия регулярно выходили многочисленные труды о клановых тартанах, и все они опирались, прямо или косвенно, на «Vestiarium». […]
Наше эссе началось с Джеймса Макферсона, а заканчивается Собески-Стюартами. Между этими творцами горской традиции было много сходства. Все трое видели «золотой век» в прошлом «кельтских гор». Все трое утверждали, что обладают документальными доказательствами. Они создавали литературные призраки, подделывали тексты и фальсифицировали историю в поддержку своих теорий. Они породили промышленность, которая продолжила свое существование в Шотландии после их смерти. Всех троих разоблачили, но они это проигнорировали и спокойно занялись другим делом в другом месте: Макферсон – индийской политикой, а Собески-Стюарты – частной жизнью в Европе.
Но между ними есть и большие отличия. Макферсон – чувственный громила, чьей целью, что в литературе, что в политике, были богатство и власть; он преследовал эту цель с безжалостной решимостью. Собески-Стюарты были любезными учеными мужами, обращавшими в свою веру явной невинностью; они были фантазерами, а не фальшивомонетчиками. Они были искренними в том смысле, что действительно жили своими фантазиями. В отличие от Макферсона, они умерли в нищете. Богатство, которое они создали, ушло к производителям тех самых клановых тартанов, что ныне носят с первобытным энтузиазмом шотландские горцы – и псевдогорцы от Техаса до Токио.
Сокращенный перевод с английского Андрея Лазарева
[1] Trevor-Roper H. The Invention of Tradition: The Highland Tradition of Scotland // Hobsbawm E., Ranger T. (Eds.). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 15–42. – Примеч. перев.
[2] Формы перевода географического деления Шотландии (Highlands/Lowlands) в русском языке до сих пор не устоялись. В данной статье использовался вариант: Highlands – «горы», или «горная Шотландия», а не «Хайлендз», «горные земли» или «верхние земли», и Lowlands – «равнины», или равнинная часть Шотландии, или «равнинная Шотландия», а не «Лоулендз», «низовые земли» или «долины». То же и с производными: «горный», «горец» (Highlander), «горский» (Highlander’s), «равнинный». – Примеч. перев.
[3] Toland J. A Collection of Several Pieces by Mr John Toland. London, 1726. Vol. I. P. 25–29.
[4] Malcolm D. Dissertations on the Celtic Languages. 1738.
[5] См.: Gibbon E. Decline and Fall of the Roman Empire. London: Everyman, 1994. Vol. II. P. 496; Hay M.V. A Chain of Error in Scottish History. London, 1927.
[6] Dunbar J.T. History of the Highland Dress. Edinburgh, 1962.
[7] Stewart D.W. Old and Rare Scottish Tartans. Edinburgh, 1893. P. 21.
[8] Burt E. Letters from a Gentleman in the North of Scotland to his Friend in London. London, 1818. Letter XXII. P. 85.
[9] Имеется в виду второе, более масштабное, якобитское восстание шотландцев под предводительством претендента на престол Карла Стюарта. Карл Эдуард Стюарт (1720–1788), он же «молодой Претендент», или «Бонни [Красавчик] принц Чарли» – потомок католического короля Якова II, свергнутого в ходе «Славной революции» (1688–1689), в результате которой к власти пришел Вильгельм III Оранский, а потом и ганноверская династия, которая (под именем «виндзорская») правит в Великобритании до сих пор. «Второе якобитское восстание», устроенное «принцем Чарли», закончилось поражением в битве при Куллодене в 1746 году. – Примеч. перев.
[10] О шотландской авантюре Роулинсона см.: Fell A. The Early Iron Industry of Furness and District. Ulverston, 1908. P. 346 ff.
[11] Raistrick A. Quakers in Science and Industry. London, 1950. P. 95–102.
[12] Я имею в виду сэра Джона Синклера и Джона Пинкертона; см. об этом текст ниже.
[13] Здесь я ссылаюсь на свидетельство Стюартов-Собески, см. текст ниже.
[14] Доказательства этого собраны в: McClintock H.F. Old Highland Dress and Tartans. Dundalk, 1940.
[15] Одно из ключевых сражений войны за австрийское наследство (1740–1748). – Примеч. перев.
[16] Уильям Питт-старший (1708–1778) – британский политический деятель, виг, в 1760-е – премьер-министр. – Примеч. перев.
[17] Sinclair J. An Account of the Highland Society of London. London, 1813.
[18] Dunbar J.T. Op. cit. P. 161.
[19] Grierson H.C. (Ed.). Letters of Sir W. Scott. London, 1932–1937. Vol. VI. P. 338–343, 452; Lockhart J.G. Life of Scott. Edinburgh, 1850. P. 443, 481–482.
[20] Grierson H.C. (Ed.). Op. cit. Vol. VII. P. 213.
[21] Macaulay Th. History of England. London, 1979. Ch. XIII.
[22] Переписка Дика Лаудера и Скотта частично опубликована: Douglas D. (Ed.). Journal of Sir Walter Scott. Edinburgh, 1891. P. 710–713; более полно в книге: Stewart D.W. Op. cit.
[23] Stewart D.W. Op. cit.
[24] Огастес Пьюджин (Augustus Pugin, 1812–1852) – архитектор, теоретик неоготического стиля, строитель Биг-Бена. – Примеч. перев.
[25] The Heirs of the Stuarts // Quarterly Review. 1847. LXXXII.
[26] Stewart D.W. Op. cit.
Неприкосновенный запас. 2015. №6.