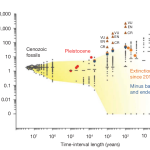Этологам в плане популяризации выигрышней всего рассказывать про сигналы-символы (англ.referential signals). Поскольку они – конечный этап эволюции систем коммуникации животных от телодвижений силовой борьбы в сторону их всё большей семантизации и типологической определённости форм демонстраций, складывающихся из этих телодвижений. Они выделяются по набору характеристик, наличие которых отличает их от другой, более примитивной категории средств коммуникации – сигналов-стимулов:
- Они эмансипированы от мотивационной подосновы. Скажем, животное «обозначает» ими разные типы хищников, разные возможности разрешения территориальных конфликтов или разные виды пищи независимо от того, насколько боится и в какой степени хочет есть. Причём обозначает «на автомате» и точно, даже если совсем не боится, не агрессивно или не голодно. То есть видовые сигналы зависимы от «обозначаемых» типов ситуаций внешнего мира, поскольку «автоматически» выдаются при смене значимых ситуаций, независимо от «представлений», «понимания» и «намерений» животного[1], но независимы от внутреннего состояния реципиента, втянутого в эту ситуацию. У сигналов-стимулов – наоборот, почему первые могут быть названы сигналами ситуаций, а вторые сигналами мотивацией, даже когда используются в одном и том же контексте – ухаживания, угрозы, предупреждения об опасности и пр. Причём ситуационная специфичность равным образом проявляется как при распознавании, так и при продуцировании сигнала (англ. Situtionally & production specifity). см. D.Blumstein, 2002. The evolution of functionally referential alarm communication. P.139-141).
- Они не являются релизерами в том смысле что не «принуждают» реципиента к автоматической выдаче специфического ответа (релизеры это делают независимо от того, чем он занят, так что движения атаки или бегства появляются на фоне одновременного исполнения каких-либо демонстраций, что выглядит очень забавно). Реципиент имеет свободу выбора ответа на поступивший сигнал, правда система коммуникации устроена так, что дальше «поощряется» адекватный ответ (основанный на сигнальной информации) и наказывается неадекватный (неверный или отсутствие ответа). Поэтому большинство ответов – таки представляют собой выбор поведения на основании сигнальной информации.
- Помимо независимости от мотивации, они независимы и от прочих переменных контекста – индивидуальности особи, уровня возбуждения, дистанции до обозначаемого объекта или ориентации особи относительно него (англ. Contextual independence, ibid., p.141-143).
- Они имеют внешнего референта в виде логически альтернативных категорий обозначаемых ситуаций, связанных с разными режимами или случаями взаимодействия особей друг с другом (в контекстах ухаживания и угрозы) или с внешним объектом (разные виды корма, разные классы опасности и пр.). Англ. Functional reference. То есть сигналы как бы «именуют» или «называют» их, обеспечивая адекватный ответ реципиента, включая способность рассчитать нужную реакцию исходя из собственных обстоятельств, а не обстоятельств пославшего сигнал (если эта тревога – стоит ли получателю спасаться, тем самым прерывая кормление и пр.). То есть сигнал обладает перемещаемостью (ibid., p.143-144).
- Формы разных сигналов ряда взаимно-альтернативны и не содержат переходов в виде промежуточных телодвижений (визуальные демонстрации) или звуков (акустические). Ibid., 144-145.
Понятно, что эти характеристики позволяют рассматривать сигналы-символы как произвольные знаки, где связь означающего с означаемым невыводима для внешнего наблюдателя. Почему и составленные ими системы коммуникации того или иного вида можно рассматривать на одном основании (как семиотические системы) с коммуникацией человека. Больше, правда, с танцем и деньгами [2], чем с речью и языком; и, конечно, это изоморфизм, а не гомология, реальный филогенетический путь перехода от систем коммуникации животных к языку имеет промежуточной стадией полную ликвидацию видоспецифических систем сигналов-символов инстинктивной природы. И, соответственно, инстинктов.
У антропоидов видовых сигналов просто нет, есть индивидуальные телодвижения или звуки, которые могут выступать сигналами ad hoc, «указывая» на индивидуальные же намерения в той мере, в какой члены группировки устойчиво подражают друг другу в «обозначении» и «распознавании» разных намерений, не более того. Но, в отличие от верветок, шимпанзе могут издавать крики с намерением – скажем, специально предостеречь именно дружественных особей (и не предостерегать вражин) и пр. Другое дело, что «тревожный крик» здесь берётся в кавычки – он нестабилен, связан плавными переходами с другими типами вокализаций и неспецифичен, передавая фактически лишь подъём возбуждения обезьяны в связи с опасностью.
И, поскольку коммуникация – своего рода «предмет роскоши», специфические сигналы встречаются редко – лишь при крайней необходимости организации информационного обмена, когда важно разграничение качественно разных ситуаций или внутренних состояний животного. Что было показано в обзоре криков, ассоциированных с пищей, у разных видов птиц и млекопитающих[3]. Наиболее обычны крики, отражающие лишь общее возбуждение, разные уровни которого показаны разной степенью интенсивности единственного «кормового» крика. Дифференцированные системы сигналов, когда разным кормам соответствуют разные крики, отмечены лишь у немногих видов (или групп видов одной клады). Но там где они появляются, они эволюционируют от сигналов-стимулов в сторону всё большей функциональной референтности. Правда, у тревожных и агрессивных криков это видно куда лучше, чем у пищевых.
Но здесь и сейчас речь не о них, а о другой категории – сигналах-стимулах. Это как раз классические релизеры[4]. Их специфические формы демонстраций (визуальных ли, акустических и иных) обладают «принуждающим» действием, вроде «укола», тычка или толчка. Так, при ухаживании у зеленоватого тритона Notophtalmus viredescens самка демонстрирует брюхо, заполненное яйцами, а самец ей – внутренние поверхности задних конечностей с роговыми подушечками, небольшие ямки на скулах и хвост с увеличенной высокой складкой. В зависимости от реакции самки на эти демонстрации самец реализует два сценария поведения. Если самка останавливается поблизости от самца, демонстрирование быстро заканчивается и самец переходит к следующей фазе ухаживания. Если самка удаляется, самец следует за ней, стараясь обхватить её передними конечностями, и интенсивно демонстрирует. При низкой реактивности самки продолжительность демонстраций примерно в 25 раз выше: в конце концов, движение самки прочь замедляется, самцу удаётся её нагнать и схватить[5] (Verrell, 1987).
То есть, увеличивая интенсивность воздействия стимула, самец старается «поднять» реактивность самки до уровня, позволяющего ей перейти к следующим этапам ухаживания – начать сближения с демонстрирующими самцами, чтобы выбрать одного и взаимодействовать дальше именно с ним вплоть до передачи сперматофора. Интенсивность воздействия при таком «обращении внимания» самки на самцов намного более значима, чем точность воспроизведения формы сигнала при демонстрациях. Не случайно она ведёт к характерным «сбоям», снижающим эффективность коммуникации – к привлечению незрелых самок, самок близкого вида и т.п. «посторонних объектов», ухаживание за которыми нецелесообразно (Гомелюк, 1979).
Вот когда под действием соответствующей стимуляции самка уже мотивирована к сближению с самцами и к оценке их демонстраций «с точки зрения» возможностей тесного сближения, тогда точность воспроизведения формы сигнала приобретает решающее значение, а интенсивность стимуляции делается не столь существенной. См. исследования ухаживания девятииглых колюшек рода Pungitius (Гомелюк, 1979).
Другой пример: исследовали индикаторы эмоционального возбуждения в структуре оборонительных криков большой песчанки Rhombomys opimus, и манипулятивное влияние криков обороняющейся особи на поведение агрессора. Взаимные конфликты песчанок провоцировали, ссаживая двух животных на нейтральной территории. После короткого периода борьбы, в разной степени ритуализованной, побеждал один из зверьков и преследовал второго, проявлявшего подчинённое поведение и издававшего оборонительные крики.
По мере наступления победителя и сокращения дистанции между песчанками изменения эмоционального состояния обоих немедленно отражались в пропорциональных изменениях вокализации. Уменьшалась длительность оборонительных звуков, их энергия смещалась в высокочастотную область спектра. Для тональных звуков также возрастали значения основной частоты и глубины частотной модуляции.
Соответствующие изменения вокализации испуганной, обороняющейся особи оказывали немедленный «отталкивающий эффект» на наступающего зверька. Крики песчанок сразу же увеличивали дистанцию между оппонентами. Важно подчеркнуть, что вокализации больших песчанок, обладающие более специализированной акустической формой, эффективней ингибировали агрессию по сравнению с менее определёнными вокализациями светлой песчанки Gerbillus perpallidus (Володин и др., 1998; Доронина, Володин, 2007).
Иными словами, сигналы-стимулы обеспечивают жёсткую связь сигнала, мотивации отправителя, и ответа, вызванного сигналом. Хороший пример – демонстрации «объявления намерения» чайки-моевки Rissa tridactyla. Исследовали крики птиц перед взлётом от гнезда или от партнёра. Предвзлётные демонстрации, сопровождающиеся вокализацией, зафиксированы лишь в присутствие партнёра. Поэтому они не могут быть просто следствием роста общего возбуждения, которое после превышения некого порога могло бы вызвать сам взлёт и сопровождающий его крик одновременно. Здесь же предвзлётные демонстрации в 70-90% случаев вызывают ответ партнера и обмен криками. Все 4 категории ответных демонстраций непосредственно определяют возможность взлёта. «Предвзлётный крик» (pre-departure call) предшествует взлёту, «долгий крик» (long call) и «кашлянье малой интенсивности» (low intensity choking) санкционируют его, а «вскидывание клюва» (head tossing) — препятствует (Daniels et al., 1984).
Поэтому при использовании сигналов-стимулов реципиент лишён свободы выбора – он или «автоматически» выдаёт соответствующий двигательный ответ (с вероятностью, тем большей, чем выше релизерная эффективность демонстрации), или же «держится», не реагируя, как ни в чём ни бывало, вроде того спартанца с лисёнком за пазухой. Разве что понижается стереотипность исполнения его собственных демонстраций, пока он выдерживает это давление специфической стимуляции от партнёра, что снижает эффективность последних. Однако и здесь действие сигналов-стимулов реализуется именно и только через предъявление формы демонстрации, которая выступает как бы специфическим рефлектором этих «уколов».
Критики этой точки зрения пытались показать, что сигнальный эффект задан не спецификой формы, а может быть непосредственно выведен из специфики акуcтической, визуальной, запаховой и пр. стимуляции[6]. Согласно этой теории реципиент реагирует не на форму, распознанную и отличённую от других форм и от фона, но на то, как слагающие её звуки, телодвижения или запахи «бьют по мозгам», которые у потенциальных реципиентов уже приспособлены именно к этим ударам (или «уколам»). Мол, плач детёныша, оставшегося без матери, визг подчинённого, вздутого доминантом, действует потому, что соответствующие звуки – резкие, неприятные, вызывают стресс, и реципиент делает нужное для их прекращения (успокаивает малыша, оставляет омегу в покое и пр.). Эта же точка зрения легко распространяется на любые сигналы, скажем, брачные крики амфибий и птиц, которые наблюдатель априори не может связать с какой-то конкретной эмоцией.
Однако же данная точка зрения опровергается категориальным характером реагирования реципиентов на разные сигналы ухаживания, угрозы и т.д. сигнальных рядов, каждый из которых связан с одним из мотивационных градиентов. Если мы в опыте искажаем форму сигнала, плавно и постепенно «превращая» один в другой, то при некотором предельном искажении специфическая реакция прекращается резко и сразу (что контролируется, скажем, выработанной на данный сигнал электрооборонительной реакцией или иным способом). Одновременно также и сразу «запускается» специфическая реакция на следующий сигнал ряда. К слову, также категориально восприятие разных фонем и последовательных слов, акустический строй которых специально «подчёркивает границы».
Следовательно, выдача ответной реакции на сигнал связана с однозначным распознаванием его формы, при точном отличении от форм прочих сигналов и «фона». Иначе бы категориальности не было: ведь акустический строй разных сигналов ряда крайне сходен, почти всегда разные сигналы ряда имеют один и тот же «базовый» звук, отражающий уровень соответствующей мотивации и присутствующий во всех них разом.
Или, когда (чаще) мотивация создана конфликтом противоположных побуждений – к нападению и бегству, спариванию, атаке и бегству, разные сигналы ряда равно имеют элементы, связанные с каждым из побуждений, в пропорции, отражающей их «соотношение сил». Отсюда в структуре сигнала, вокального или визуального могут быть выделены элементы – телодвижения или звуки, непосредственно связанные с нападением и агрессией, с нападением, страхом и сексуальностью или иными элементарными побуждениями, находящимися в конфликте. Представительность в общей структуре сигнала элементов, связанных с противоположными побуждениями, отражает их взаимное «соотношение сил» и указывает на степень развития конфликта между несовместимыми стремлениями и действиями животного, которым конституируется каждая отдельная мотивация. Сигналы «сообщают» о степени развития конфликта и тем самым об уровне мотивации животного.
Так, анализировали вокальный репертуар малой чайки (Larus minutus), включающего 13 позывов. Позыв состоит из серии элементов (нот), имеющих определённый временной рисунок. Чайки издают позывы в разном состоянии (при полёте, плавании, сидя в группе), но всегда с высокой стереотипностью. Все позывы могут следовать друг за другом в разных сочетаниях, кроме «долгого крика [7]» (Long call): он включает 3 определенных позыва в жёсткой последовательности. Сравнение сонаграмм «долгого крика» с позывами малой чайки при открытых атаках и избеганиях показало, что сигналы агрессии и бегства можно выделить на структурном уровне (распознав маркирующие их типы звуков внутри долгого крика).
Изменение тона сигналов «длинного крика» изменяет процент участия элементарных сигналов нападения и бегства в структуре комплексного амбивалентного сигнала «долгий крик», так что соответствующая пропорция информирует об изменениях соотношения страха и агрессии у демонстратора. На этом основании утверждается наличие «тройного соответствия» между демонстрацией, мотивацией и эффектом, позволяющего определить акустические демонстрации как стимулы (Veen, 1985, 1987).
Далее, элементарные движения из состава демонстраций могут быть непосредственно связаны с теми элементарными побуждениями, «столкновение» которых образует конфликт мотиваций, что проявляется в их внешнем виде. Так, Нико Тинберген обнаружил, что тенденция атаковать противника во внешнем облике Upright display разных видов чаек проявляется в поднятии карпальных сочленений и вытягивании шеи, притом что клюв направлен вниз. Эти действия, отразившиеся в облике соответствующей демонстрации, образуют движения намерения двух разных способов атаковать противника – нанести ему удар крыльями и клюнуть сверху. Другие компоненты Upright display, напротив, выражают тенденцию к бегству. В гомологичной демонстрации родственных чайкам больших поморников Catharacta skua карпальные сочленения не поднимаются, и соответствующие действия не найдены в «настоящей» борьбе (Tinbergen, 1959: 11).
То есть характеристики, о которых пишут D.Rendall, M.J.Owren и M.J.Ryan, общи для всех сигналов ряда, они родовые в логическом смысле. Понятно, что они изменяются плавно и, если б сигнал распознавался по ним, никакой категориальной реакции бы не было. Так, у разных видов попугаев-лорикетов Trichoglossus число агонистических демонстраций варьирует от 6 до 20, но в их состав всегда входит ритуализованное движение угрозы клювом (у всех видов он крупный и ярко окрашенный) или ритуализованное движение бегства (очень демонстративное закатывание глазного яблока), см. Serpell, 1982, 1989. У больших пёстрых дятлов в агонистических демонстрациях этот «стержневой элемент» представлен выдвижением крайних рулевых, а, скажем, у аргентинской савки – демонстрацией пениса.
А вот формы разных сигналов (особенно соседних сигналов ряда), которые по понятными причинам в последовательностях поведения часто идут друг за другом, различаются другими признаками, которые (или их сочетания) специфичны для каждой из форм. См. дискриминацию разных демонстраций кряквы на рис.9В в «От стимула к символу»; в логическом отношении это видообразующее отличие. Они как раз однозначно дискриминируют сигналы, так что распознавание по ним должно дать категориальную реакцию.
И поскольку даёт – представления D.Rendall, M.J.Owren и M.J.Ryan неверны. Что важно подчеркнуть – категориальна реакция и в случае, когда ряд сложен сигналами-стимулами, не только сигналами-символами. Что особенно важно для обоснования «семиотичности» и «семантичности» сигналов животных[8], поскольку у первых в отличие от вторых, формы разных сигналов ряда не дискретны и не альтернативны друг другу, образующие их телодвижения, звуки и пр. не противопоставляются, а связаны плавными переходами. Тем не менее плавного изменения реагирования в опытах с «превращением сигнала» не происходит, оно также категориальное, хоть с большим числом ошибок – по понятной причине увеличения «сбоев распознавания» от этих самых промежуточных движений.
Наконец, и наличие переходов между элементами сигнального ряда отнюдь не препятствует выделению отдельных демонстраций как дискретных и специфических единиц процесса коммуникации. Точно так же, как наличие почти идеального континуума мотивационных состояний, выраженных в демонстрациях соответствующего ряда, не только не препятствует дискретности данных элементов последнего, но даже требует её, если те во взаимодействиях функционируют как сигналы. В таком случае уровень мотивации становится означаемым сигнала.
У озёрных чаек имеется диагональная поза угрозы и «распластывание», между которыми присутствуют всевозможные переходы. Киносъёмка агонистических взаимодействий показала, что в большинстве агонистических ситуаций нападения и бегства, во-первых, сами позы встречаются чаще, чем переходные движения, во-вторых, обе позы и переходы между ними — намного чаще, чем незавершённые попытки демонстрации поз №1 и №2. Главное, что даже при наличии переходов существуют два уровня реагирования оппонента, соответствующие первой и второй позе (Tinbergen, 1959, 1975).
Другой пример — у суслика Белдинга Spermophilus beldingi звуковые реакции на появление потенциальной опасности включают 3 типа звуков — трели, чириканье и свисты. Трели — серии коротких, быстро следующих друг за другом звуков, с гармонической структурой спектра. Они чаще всего издаются в ответ на появление в их поле зрения наземных хищников (в экспериментах — человека, собаки, на чучело длиннохвостой ласки и американской норки). Одиночные чириканья и свисты обычно сопровождают появление пернатых хищников, но более детальный анализ показывает, что свистом маркируется всякое резкое движение, сильно пугающее животное, трелью — появление опасности, пугающей суслика не очень сильно (неподвижной или, во всяком случае, контролируемой). Чириканье — сигнал, переходный между двумя предыдущими, альтернативными по «значению» (Leger et al., 1984).
Крайне существенно, что эти три типа сигналов, маркирующие три разных уровня беспокойства животного (о которых суслики «считают существенным сообщить» другим особям в группировке) устойчиво отделены друг от друга лишь в контексте предупреждения об опасности. В данном случае переходные формы между ними редки, и преобладают «чистые типы» сигналов, также как в случае с агонистическими демонстрациями озёрных чаек.
Более того, тот же трелевой сигнал издают самцы сусликов после копуляции. Непосредственной причиной этого, как у самцов воробьиных птиц, является обычный для процессов ухаживания мотивационный конфликт между сексуальностью, страхом перед самкой и агрессией по отношению к ней, когда непосредственно перед копуляцией и во время неё уровень страха максимален (Хайнд, 1975). Однако тот же сигнал в новом контексте употребляется уже с совершенно иным синтаксисом — послекопуляторные трели отличаются от сигнализирующих об опасности меньшим числом элементов и большей длительностью каждого элемента (различия статистически значимы), между этими двумя типами сигналов практически нет переходов (Leger et al., 1984).
Эти же трели фиксируются и в агонистическом контексте, где используются сугубо неспецифически. Там они просто маркируют высокое возбуждение животных и не связаны ни с какой из дифференцированных ситуаций взаимодействия, а также независимы от статуса участников («резидент», «чужак» и т.п.). В этом случае сигнал крайне вариабелен, его изменчивость настолько широка, что перекрывает оба «чистых типа» трелевого крика, и «предупреждающий», и «посткопуляторный», причём преобладают переходные формы (Leger et al., 1984).
Иными словами, получено чёткое подтверждение тезиса, что эффективная коммуникация требует специфических элементов поведения, передающих вполне определённую информацию компаньонам, и это невозможно без дифференцированных сигналов. Даже если в исходном поведении животного вне коммуникативной ситуации соответствующие поведенческие паттерны не разделены, то в специфическом контексте общения их приходится разделять, устанавливая дискретность разных демонстраций, «относящихся» к одной социальной мотивации, что и показано в данных примерах.
Дальше, у тех же чаек и крачек на фоне довольно высокой изменчивости индивидуальных характеристик сигнала зафиксировано исключительное постоянство характеристик видовых. Показана инвариантность характерной структуры акустического образа сигнала в широком диапазоне мотивационных состояний кричащих особей и в широком спектре географических популяций на пространстве видового ареала. В частности, ритмическое развёртывание крика происходит с одинаковой, статистически достоверной закономерностью у крачек азовской и прибалтийской популяций[9].
Хороший пример видоспецифичности сигналов, её связи с ситуационной специфичностью и коммуникативной действенностью демонстрации, подающей сигнал — основной видовой крик речной крачки Sterna hirundo. Он хорошо распознаётся по акустическому образу, созданному характерной ритмической структурой, составленной определённой последовательностью импульсов. В двух колониях крачек на озере Энгуре в Латвии измерены периоды следования импульсов в криках гнездовых пар (одна колония включала 5 пар, вторая – 12). Оказалось, что длительность периода следования импульсов — устойчивая характеристика индивида, не связанная с мотивационным состоянием и, соответственно, продолжительностью крика. Межиндивидуальная изменчивость этого параметра велика — 11-25 мс.
Вообще, у разных видов чаек и крачек зарегистрирована высокая стереотипность исполнения криков, связанных с мотивациями нападения, агрессии и бегства. Каждый крик из N дифференцированных сигналов, соответствующих разным категориям конфликтных ситуаций, связан с разным «соотношением сил» противоположных побуждений (приближения для атаки и отступления/бегства от страха перед потенциальной опасностью). Последние специфичны для той ситуации конфликта, в которой издаётся крик[10].
Сами крики образуются ритуализацией соответствующего конфликта мотиваций, так что в специфической структуре сигнала можно выделить отдельные элементы, непосредственно связанные со страхом и агрессией (Veen, 1987). Но ведь в любой ситуации окрикивания противника или потенциальной опасности конкретное соотношение тенденций нападать на противника (приближаться к возможной опасности) и бежать от него (от неё), постоянно меняется. Поэтому на первый взгляд кажется, что форма этих сигналов должна быть исключительно нестабильна и пластично меняться вслед за экспресс–изменениями ситуации вовне и мотивации внутри индивида-осциллятора сигналов. Так, на данном предположении строит свою вероятностно-статистическую концепцию коммуникации Е.Н.Панов.
Но нет! Исследования J.Veen (1987) и ряда других авторов показывают, что форма каждого сигнала стабильна, и отражает определённую категорию ситуаций взаимодействия из общего числа K ситуаций, «маркированных» соответствующими сигналами репертуара. Когда изменяется ситуация, сменяется и сигнал, но не ранее. Непрерывно происходящие изменения «соотношения сил» побуждений нападения и бегства в ходе самой ситуации отражаются только в тех характеристиках демонстрации, которые не влияют на специфическую форму сигнала, в первую очередь в изменениях интенсивности и длительности вокализаций, а также темпа выдачи отдельных криков (Veen, 1987).
То же выявлено N.Blurton-Jones для визуальных сигналов. В опытах с канадскими казарками Branta canadensis и большими синицами им было показано, что весь спектр агонистических демонстраций того и другого вида появляется при одновременном воздействии разных стимулов, одни из которых вызывают нападение, другие – бегство. Для канадских казарок это приближение наблюдателя и его резкие движения в их сторону, для синиц – всовывание в клетку карандаша (нападение) с зажиганием лампочки, пугавшей птицу и вызывавшей бегство. После того, как оба стимула были предъявлены, следовала выдача определенной демонстрации, форма которой не менялась и тогда, когда соответствующие стимулы приближали к тестируемой особи или удаляли от неё, хотя «соотношение сил» побуждений нападения и бегства при этом явно и сильно менялось (Blurton-Jones, 1962, 1968).
О последнем судили по двигательной активности животного, в том числе по соотношению прямых действий нападения, бегства и ненаправленной локомоции (отражающих общее беспокойство), сопровождающих демонстративный ответ на стимуляцию. Эти движения изменялись существенно, но форма демонстрации не менялась до тех пор, пока не использовалась другая комбинация стимулов (Blurton-Jones, 1962).
У визуальных демонстраций, как и у акустических, мотивация (или возбуждение) исполнителя отражается в тех параметрах внешнего облика, которые не связаны с инвариантом сигнала, а последний воспроизводится без изменений.
Отсюда сигналы-стимулы находятся на том же пути эволюционного совершенствования сигналов (всё большей и большей семантизации телодвижений и типологической определённости, инвариантности формы, образованной комплексом этих последних), что и сигналы-символы. Просто это более примитивная стадия, что видно в их формах (наличие промежуточных элементов) и в функции («обозначение» важных участникам взаимодействия объектов и ситуаций последнего не напрямую, а через уровни мотивации особей, «втянутых» в соответствующие ситуации).
***
И ещё интересное. Сигналы-стимулы, будучи социальными релизерами в коммуникации позвоночных, показывают забавный изоморфизм с человеческими стереотипами. Инстинкты животных вообще изоморфны стереотипам, выработанным культурой. Собственно, там где говорят, что «у человека есть инстинкты», их путают либо с рефлексами, либо со стереотипами, либо же смешивают инстинкт с большей или меньшей наследуемостью разного рода влечений, образующих мотивационную подоснову того или иного поведения – от агрессивного-сексуального до страха и тяги к выпивке. Однако это совсем нехорошо: хотя instinctus и значит «побуждение», инстинкт определялся этологами как внешняя структура (обладающая специфической формой, по которой распознаётся наблюдателем или, скажем, коммуникативными партнёрами), но не внутреннее состояние, которое, независимо от степени наследуемости, может колебаться в широких пределах[11]. См. выше сказанное про сигналы-символы, которые вообще эмансипированы от мотивационной подосновы. Это же термин, а не слово обыденного языка, и оно преоккупировано именно этим значением.
Так или иначе, один из аспектов изоморфизма – как инстинктивное действие автоматически «запускается» при предъявлении комплементарного ему ключевого раздражителя (социального релизера), так соответствующий стереотип запускается в ответ на некие ключевые реплики или действия, как бы квазирелизеры. И запускается столь же «автоматически»: действия в рамках стереотипа проходят мимо сознания, наподобие действий танцоров или шахматистов, и осознаются лишь в случае если кто-то третий «нажмёт» со стороны. Вот пример ксенофобского стереотипа («ленивые мексиканцы»), и его реализация в невербальном поведении, ведущем к дискриминации при приёме на работу.
Об этом есть интересная книга Р.Чалдини «Психология влияния», я коснусь лишь частного случая – активации расистских и сексистских предрассудков под воздействием мотивированной ими пренебрежительной и уничижающей риторики. Соответствующие слова, hate speech, выступают здесь своего рода квазирелизерами, «высвобождая» дискриминирующие / принижающие действия даже у тех, кто данный предрассудок преодолел, его стыдится, или у кого он был недостаточно силён для спонтанного или активного проявления[12].
Вот поэтому все сторонники означенных предрассудков так отстаивают право свободно высказываться подобным образом. Чем больше таких слов, тем сильней связанные с ними ненависть и дискриминация, тем больше они различаются в публичном пространстве, а капля камень долбит….
Так, исследование Paul Verhaeghen et al. (2011) показывает, что многие люди воспроизводит в речи расистские или (особенно) сексистские стереотипы отнюдь не потому, что сознательно разделяет их или желает задеть тех, кого этот стереотип принижает, а потому, что они реально встречаются с повышенной частотой в языке, и люди автоматически воспроизводят их, это именно речекряк или, научней, рациоморфный процесс, «социальное бессознательное». Авторы пишут, что люди склонны ассоциировать чернокожих с насилием, женщин — со слабостью, пожилых — с забывчивостью, не потому что это у них в голове; это в языковой среде, которая их окружает. Этому их научили газеты, радио, телевидение, Интернет. Поэтому имеет смысл говорить не о том, что этот человек расист, а о том, что он американец.
Поскольку язык изменяется через индивидуальные решения людей об изменении словоупотребления, если эти последние носят характер массового процесса, общественное давление, изгоняющее расистские/сексистские стереотипы из языка, будет вполне эффективным в том смысле, что их будут воспроизводить лишь сознательные сторонники соответствующих предубеждений, а не автоматически случайные люди. Точно также как в одной из популяций павианов анубисов установилась и уже 20 лет поддерживается за счёт социальной трансляции низкоагрессивная норма поведения («миролюбивая культура»), доселе казавшаяся «совершенно несвойственной» этому виду (via igoretz). То есть польза и смысл политкорректности – в разрыве таких иллюзорных корреляций, ограничивающих хождение предрассудков в обществе а, значит, понижающих автоматичность воздействия их на людей.
[1] они инстинктивны даже у столь продвинутых существ, как верветки с игрунками, или макаки. Так, приёмные дети беличьих обезьян-саймири, и двух видов макаков (японских M.fuscata и резусов M.mulatta), воспитанные в сообществах близких видов того же рода, прекрасно понимали сигналы приёмных родителей и реагировали соответственно – и наоборот. Однако ни те, ни другие «для лучшего понимания» никогда не пробовали воспроизводить сигнал близкого вида, обычно звучащий в соответствующей ситуации – хотя видовые различия в вокализациях небольшие, для этого надо чуть-чуть изменить звучание собственных сигналов, и возможности голосового аппарата это вполне позволяют. См. Newman, Symmens, 1982; Owhren et al., 1992. Иными словами, даже у обезьян «ум» каждого индивида может понять, с чем связана инстинктивная сигнализация, какие реакции она запускает у «третьих особей», и как-то использовать это в своих интересах. Однако изменить набор запускающих ситуаций (стимулов) и структуру запускаемых вокализаций они не могут.
[2] Ясное дело, что деньги не носят «такого же символического характера», что и танец. Если только под этим автор не подразумевал, что-то своё, особенное, которое он увы, не уточняет ниже.
[3] или вот показательный пример с отличием криков макака-лапундера от кркиов прочих макаков.
[4] Релизер – ключевое понятие классической этологии. Это специфические морфоструктуры (брачные украшения, цветные пятна, кожистые выросты и пр.) или действия (демонстрации), которые благодаря специфической форме или характерному образу для рецептивного партнёра являются знаковыми стимулами и в качестве таковых используются в процессе коммуникации. Релизеры — это стимулы, самого факта предъявления которых уже достаточно для высвобождения ответной реакции, точно соответствующей стимулу, если животное находится в соответствующем мотивационном состоянии и рецептивно в отношении данного стимула.
[5] Название происходит от англ. to release – высвобождать, калька исходного немецкого термина der Auslöser. Кроме «высвобождать», auslösen означает «запускать, включать, приводить в действие», и «сбрасывать бомбу в цель» [курсив мой – В.K.]. Все эти смыслы покрываются понятием социальных релизеров, как оно введено Лоренцем в работе «Компаньон в мире птиц» (Lorenz, 1935). Коммуникативная действенность релизеров состоит в немедленной «автоматической» выдаче специфического ответа на стимуляцию, который точно соответствует характеру стимула. «Знаковость» релизеров определяется тем, что он действует через специфическую форму демонстрации и связан со специфической ситуацией взаимодействия, в которой употребляется, чтобы быстро и точно её разрешить. Точное соответствие стимула и реакции наиболее существенно в процессе коммуникации, когда обе особи используют дифференцированные наборы стимулов (демонстраций ритуализованной угрозы, ухаживания и пр.) для воздействия друг на друга, а специфические реакции особей также представляют собой демонстрации – элементы того же набора релизеров. Своевременная выдача демонстраций в соответствии с характером стимула позволяет процессу взаимодействия продолжаться и далее, направленно развёртываясь до некого биологически осмысленного результата.
Verrell P.A., 1987. The complex courtship of the red-spotted newt// Bull. Chicago Herpetol. Soc. Vol.22. №6-7. P.119-120.
[6] Интересней всего это делается в работе D.Rendall, M.J.Owren и M.J.Ryan, 2009. «What do animal signals mean?».
[7] Долгий крик (long call) — наиболее сложно структурированный вокальный и визуальный сигнал у чаек (сем.Laridae). В менее ритуализированной форме он также присутствует в репертуаре поморников (сем. Stercoraridae). Включает определённую последовательность звуков, исполнение которых строго сопряжено с серией глубоких поклонов и задираний головы (часто с отведением крыльев), которые чередуются друг с другом. Общая амплитуда демонстраций долгого крика, скорость исполнения демонстрации и фиксированность выразительных движений данного ритуала видоспецифичны, из-за чего форма демонстраций долгого крика имеет существенное значение в таксономии и определении родственных связей видов рода Larus. По многоэтапности и сложности координации последовательностей визуальных и вокальных сигналов животного, реализуемых параллельно друг другу, долгий крик чаек может быть сопоставлен с «триумфальной церемонией» у гусей, подробно описанной К.Лоренцем в «Агрессии».
[8] То есть что они действуют своей формой, распознаваемой и классифицируемой рециепиентом как значимый элемент внешнего мира, Umwelt, а не последствиями «удара», «тычка» и «укола» от связанной с ним стимуляции в мире внутреннем, Innerwelt.
[9] Никольский И.Д., 1982. Об одном ритмическом показателе в крике речной крачки //Рукопись деп. в ВИНИТИ 6 июля 1982 года. №3520-82. 11 с.
[10] Мераускас П., 1984. Экспериментальное изучение кодирования акустической информации у чайковых птиц //Авиационно-орнитологические исследования в Литве. Вильнюс. С.132-144.
Никольский И,Д,, 1990. Звуковые корреляты функциональных связей в колониях чайковых птиц// Современные проблемы изучения колониальности у птиц. Мат-лы II Совещания по теоретическим аспектам колониальности. Симфереполь-Мелитополь, изд-во СОНАТ. С.157-159.
[11] Тем более что у нас нет биологической предрасположенности к обучению именно человеческой речи /нашим невербальным реакциям. См. Comparative Tests On A Human And A Chimpanzee Infant Of Approximately The Same Age, Part 2 (1932) from Miss Labores on Vimeo.
http://vimeo.com/8289858
http://vimeo.com/user1453340
Эксперимент прекратили, когда человеческий младенец начал подражать шимпанзе вместо того, чтобы учиться говорить, подражая взрослым людям (via ygam).
В то же время как у ряда видов певчих птиц (где видовая песня не врождённая, а выучивается молодым самцом во взаимодействии со взрослым «учителем») в условиях выбора есть явное, хотя и вероятностное, неполное, предпочтение к выучиванию собственной песни. Хотя у видов с наиболее сложной и «бесконечной» песней, насыщенной имитонами, такого предпочтения тоже нет. Хотя они ни разу не люди, у них в этом аспекте «социальное» тоже взяло под своё управление «биологическое». Но только в этом, не во всех, как у нас.
[12] См. главу про активацию стереотипов из книги Э.Аронсона, Т.Уилсона, Р.Эйкерта «Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме» (СПб.: Прайм-Еврознак, 2002), 1-2-3-4-5. Другими словами, у некоторых мужчин в сознании существует автоматическая связь между силой и сексуальной привлекательностью; активизация понятия о силе увеличивает у них привлекательность женщины. Из этого исследования напрашивается довольно тревожный вывод, что эти мужчины не осознают связи в своём сознании силы и секса и могут не понимать, что к женщинам их влечёт ощущение собственной силы. Они могут просто «не улавливать» его из-за того, что это чувство возникает у них автоматически, и они не осознают его источник.