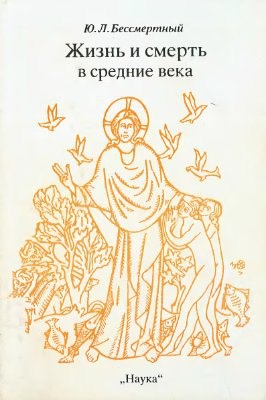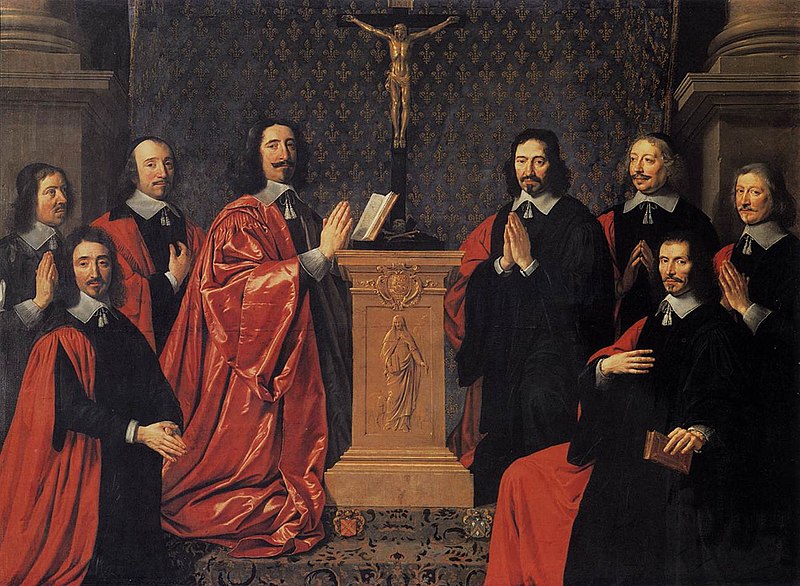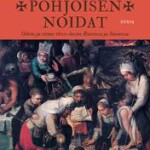Тут недавно биолог, а скорее начальница Мария Ведунова из Нижнего Новгорода высказалась, что человечество сделало страшную ошибку, позволив женщинам получать образование (в г. Горьком, где она родилась в 1983 г. — она, что типично, из «первого свободного поколения»! — эта идея ей не пришла бы на ум даже в горячечном бреду, а с рождаемостью было несравненно лучше, что показывает глубину общей деградации). Что с этой идеей не так? Решило не «человечество», решили мужчины высших классов в 16-19 в., когда их господство над своими женщинами, в средневековье неполное и ограниченное, достигло максимума (у простолюдинок оставались некоторые отдушины). А почему решили, показывает известный исторический демограф Ю.Л.Бессмертный в книге «Жизнь и смерть в средние века» (Очерки демографической истории Франции. М.: Наука, 1991. 240 с.), которая дальше подробно пересказывается в посте. Чуть раньше, в 15-16 вв., церковь в Европе достигла желанной цели: где лаской где таской внедрила церковный, т. е. моногамный брак с «жена да убоится мужа своего» вместо прежнего разнообразия отношений. Одним из следствий стало равнодушие отцов к воспитанию детей, так что церковники были вынуждены сие порицать и заботу о детях проповедовать, тогда как раньше излишнюю заботу о детях они осуждали: любить надо бога. И несмотря на проповеди, ситуация не исправлялась, поэтому, чтобы воспитать образованного сына, нужна была образованная мать (в крайнем случае гувернантка из обедневших представительниц того же сословия), в условиях неравенства полов на неё сбрасывалась и эта сфера.
Тем более что подбор брачных пар у людей идёт по сходству социальных возможностей и предпочтений, как только появилась возможность подъема через образование — по сходству уровня образования, и в первую очередь у учившихся в университетах, а тем более там преподающих. Отсюда стремление создать качественную, но лучше раздельную систему образования для дворянок и/или буржуазок, вроде высших женских курсов в Российской империи, или женских колледжей/институтов в США, ученицы в которых оставались более-менее бесправными, а за право на равных учиться в исходно мужских ун-тах надо было бороться (здесь показательно сравнить ФРГ и ГДР, где доля студенток в ун-тах была на 10-15% выше, и это вторая половина ХХ в. Иными словами, женское образование, включая высшее, стало необходимым следствием тех самых традиционных ценностей, которые она вместе с другими начальниками желают нам навязать. Почему все эти попытки обречены, ход истории ведёт людей к естественному для них равенству, в том числе и во взаимоотношениях полов. Также рассказывается о других интересных местах книги.
1. На примере демографической истории Франции 17-18 веков не только показано наличие «демографических циклов (с 1564 г. и до Революции их было не менее 13-14), но и прослежен их механизм. Их любят называть «мальтузианской ловушкой»: город до промышленной революции имеет достаточно замкнутую, не развивающуюся структуру профессий, поэтому, мол, не может пристроить демографические излишки сельского населения, отчего оно в массе мрёт, земли снова становится много и всё повторяется заново. Оказывается, нет, механизм падения численности на нисходящей фазе цикла иной, не за счёт увеличения смертности, а за счёт сокращения воспроизводства, и не в сельской местности, а в городах.
Причём посредником в сокращении воспроизводства было сокращение брачности в низших ремесленных слоях города, и в тех возрастных классах, что давали максимум вклада в воспроизводство. Удорожание продуктов, следующее за сельским переселением, вызывало распад или необразование семей в городах c с соответствующим сокращением воспроизводства, причём уменьшение числа брачных ячеек строго следовало за уменьшением числа ячеек производственных, от ухудшения конъюнктуры.
«В XVI и особенно в XVIII в. средний возраст смерти по сравнению с предшествующими столетиями заметно повышается. (Речь идет, разумеется, лишь о «нормальных» годах.) Так, у родившихся в XVII в. представителей светской и церковной аристократии средняя длительность предстоящей жизни в 40-летнем возрасте составляла 24-28 лет (т. е. они умирали в возрасте 64-68 лет), а у тех, кто дожил до 60 лет — 11-15 лет. Во второй половине XVIII в: только за полстолетия (1740-1789 гг.) среди людей между 20 и 60 годами смертность уменьшилась с 40,1% до 35,5%. Как констатируют авторы «Истории французского населения», «при Старом порядке редко умирали молодыми, чаще всего смерть настигала либо детей, либо стариков».
В разных социальных классах средняя продолжительность жизни была, конечно, не одинаковой, более обеспеченные умирали позднее20. Однако весьма показательно, что увеличение длительности предстоящей жизни в XVII-XVIII вв. наблюдалось и в наиболее высокопоставленных слоях21, о недостаточной материальной обеспеченности которых в предшествующий период говорить не приходится. Следовательно, удлинение жизни трудно объяснить лишь экономическим прогрессом и подъемом материального благосостояния. Нельзя также считать единственной причиной повышения возраста смерти успехи гигиены и медицины: до начала вакцинации в XIX в. их влияние оставалось сравнительно скромным. Вполне возможно, что рост продолжительности жизни взрослых (как и детей) в XVI-XVIII вв был, хотя бы частично, результатом интенсификации витального поведения2*. [последнее наблюдалось даже в отсталой Вандее. Прим.публикатора]
Все это, конечно, не исключает ни сравнительно высокой общей смертности (даже в «нормальные» годы она достигала 35—40 промилле, т.е. превышала смертность в современной Франции примерно в 3,5-4 раза), ни тем более огромной смертности в периоды так называемых демографических кризисов XVI- XVIII вв. Такие кризисы, выражавшиеся прежде всего в катастрофическом росте смертности (в 4-5 и более раз по сравнению с «нормальными» годами), повторялись в эти столетия многократно. Один из них были узкорегиональными, другие — обще-французскими, третьи — всеевропейскими. Определение их числа зависит от критериев, которые признаются достаточными для их ‘констатации. Но даже если учитывать только наиболее массовые кризисы, за 220 лет — с 1564 г. до начала Великой французской революции — их было не менее 13-14. Естественно, что они привлекали внимание современников, пытавшихся уяснить их истоки и меры их предотвращения.
Среди многочисленных попыток этого рода заметно выделяется та, которую в конце XVIII в. предпринял Томас Роберт Мальтус. В советской — и не только советской — литературе взгляды Мальтуса столько раз все вновь и вновь подвергались острейшей критике, что один только этот факт — неизменное обращение к трудам Мальтуса — достаточен, чтобы усомниться в оправданности односторонне-негативного отношения к его научному наследию.
Здесь нет возможности подробно обсуждать концепцию Т. Мальтуса. Отметим лишь одну особенность его общего подхода. Опираясь на выводы предшественников, еще до него заметивших самый факт демографического гомеостазиса в человеческом обществе, Т. Мальтус был первым, кто не удовлетворился констатацией связи между численностью населения и наличной массой продуктов питания. Он задался целью понять самый механизм взаимодействия между демографическим и социальным развитием. Этот механизм действовал, по мнению Т. Мальтуса, не только через сферу материального производства, но и через сферу сознания. Не исключая демографического роста, данный механизм регулировал его таким образом, что самый этот рост становился одним из импульсов движения общества.
Сегодня ясно, что конкретные представления Т. Мальтуса о механизме демографической регуляции неприемлемы. В них игнорируется его историческая изменчивость, недооцениваются возможности агрикультурного прогресса, гипертрофируются масштабы демографического роста, абсолютизируется «половая страсть» и ее воздействие на индивидуальное поведение, предается забвению роль стереотипов массового поведения и т. д. и т. п. Однако не найдя удовлетворительного решения проблемы, именно Т. Мальтус сумел ее остро поставить и притом как раз тогда, когда она приобрела особую актуальность [и поставить именно в том ракурсе стигматизации бедняков, какой выгоден господствующим классам, почему популярность г-на викария сохраняется уже 200 лет как, при том что теория не соответствует действительности. Прим.публикатора]23.
Неудивительно, что имя этого ученого оказывается на авансцене исторической науки всякий раз, как на ее очередном витке возникает необходимость углубить понимание взаимосвязи демографического и социального развития. Такая необходимость возникла, в частности, в 50-е годы нашего столетия, когда развернулись поиски истоков демографических кризисов XVII-XVIII вв. С тех пор вопрос об исторической обусловленности демографических кризисов при Старом порядке и общих закономерностях демографической динамики не сходит со страниц специальных исследований. Остановимся на этом подробнее.
Выдвинутый в конце 40-х годов Ж. Мевре тезис о непосредственной зависимости демографических кризисов XVII в. от периодически повторявшихся неурожаев ныне мало кто разделяет. В нем видят реминисценции самого примитивного варианта мальтузианской трактовки, когда единственным фактором демографической регуляции признавалось повышение смертности24. Опираясь на многочисленные исследования последних десятилетий, авторы «Истории французского населения» предлагают ныне совершенно иную и несравненно более глубокую концепцию.
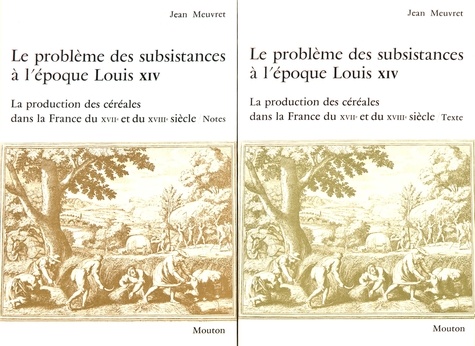
Основное произведение Жана Мёвре «Проблема существования в эпоху Людовика 14го»
Один из главных ее создателей Ж. Дюпакье считает неудовлетворительной точку зрения ряда исследователей (разделившуюся в частности Ф. Броделем, а в прошлом и самим Ж. Дюпакье), согласно которой стагнация сельскохозяйственного производства в XVI-XVIII ее. непосредственно предопределяла стагнацию численности населения Вытекающий отсюда вывод о том, что любое повышение достигнутой численности населения (или любой недород) влекли повышение смертности, Ж. Дюпакье называет «искусственным» и «механистичным». По его мысли, рост населения в XVI-XVIII ее. мог вызывать рост смертности не столько из-за прямой нехватки продуктов, сколько из-за неизбежного усиления скученности населения (в первую очередь в городах). Такое усиление скученности в условиях антисанитарии создавало предпосылки эпидемий. Распространению эпидемий благоприятствовало и усиление миграций ремесленников, виноградарей и людей иных профессий, нуждавшихся в покупке продуктов питания и потому особенно страдавших от повышения цен в период роста населения. Ослабленные недоеданием эти слои становились и первыми жертвами эпидемий, и их разносчиками. Что касается самого повышения смертности, то его последствия были, по мнению Ж. Дюпакье, особенно губительны потому, что «вымывались» возрастные классы, способные к деторождению. Сокращение рождаемости обусловливалось также распадом многих семей или же менопаузой, наступавшей у замужних женщин в период недоедания и психологической напряженности, вызванной обстановкой кризиса. Параллельно становились более редкими браки, так как мало кто решался на создание семьи в условиях голода и эпидемий.
Подтверждение этой концепции можно найти в ряде конкретных исследований (Л. Дейона, Г. Фреша, Ж. Морисо, Ф. Лебрена и др.), выявивших наиболее тесную связь недородов и повышения цен с падением уровней брачности и рождаемости (а не с ростом смертности). Корреляционная зависимость между уровнем сельскохозяйственных цен, с одной стороны, и уровнем брачности и рождаемости, с другой, была вдвое-втрое сильнее, чем между уровнем цен и смертностью. Видимо, повышение цен и вообще ухудшение социально-экономической конъюнктуры наиболее непосредственно влияло не па смертность, но на брачное и прокреативное поведение. Все это побуждает считать главным звеном демографической регуляции в период спадов не смертность, по брачное и прокреативное поведение.
Они же определяли, по мнению сторонников этой концепции, модель выхода из демографического кризиса при Старом порядке: после прекращения недоедания и ослабления эпидемий спадает психологическая напряженность; замужние женщины вновь обретают способность к зачатию; оставшиеся вне семьи мужчины и женщины вступают в повторные браки, число которых нарастает лавинообразно; многие из новых брачных пар включают более молодых партнеров из среды холостяков; брачный возраст временно понижается; омоложение браков увеличивает рождаемость и помогает быстрее компенсировать понесенные потери». Таким образом, в механизме демографического гомеостазиса при Старом порядке решающую роль играл институт брака.
Этот институт, подчеркивает Ж. Дюпакье, объединял в себе демографические, религиозные и социальные функции с экономическими. По мысли Ж. Дюпакье, брачная ячейка возникала лишь тогда и постольку, когда и поскольку было возможно создание новой хозяйственной ячейки. «Число семей — функция числа хозяйств, рабочих мест и жилищ, а не наоборот». Между тем, подчеркивает автор, число вновь возникавших жилищ и рабочих мест определялось во Франции сложившимся соотношением крупной и мелкой собственности. Это соотношение контролировалось и консервировалось правящими классами. Поддерживаемые ими аграрные структуры и производственные отношения еще в большей мере, чем консерватизм агрикультуры и сельского хозяйства, сдерживали возникновение новых рабочих мест, а вместе с тем и возникновение новых семей.
«Демографический гомеостазис осуществлялся через регулирование числа самостоятельных хозяйств…» 29
Оригинальность и широта концепции, разработанной Ж. Дюпакье и его коллегами, не может не привлекать. В то же время, па наш взгляд, не все ее элементы равно доказаны. Наименее убедительными представляются нам соображениям Ж. Дюпакье, касающиеся полной зависимости числа брачных пар от числа вновь возникавших рабочих мест. Для подтверждения этого тезиса необходимо сопоставление обоих этих чисел, которое пока что не предпринималось. Между тем некоторые конкретные исследования свидетельствуют о том, что даже в более ранний период и даже в деревне новые брачные пары возникали и при отсутствии новых хозяйственных мест30. Тем более трудно исключить подобный процесс в условиях протоиндустриалпзации XVI — XVIH ее., когда новые семьи могли найти средства к жизни па мануфактурах или фермах, без того чтобы обрести самостоятельное хозяйство или жилище. Наконец, заметим, что тезис Ж. Дюпакье о решающей роли в демографической регуляции аграрных структур и производственных отношений плохо согласуется с его же (или его соавторов) заключениями, согласно которым с конца XVII — начала XVIII в. демографический рост предшествует экономической перестройке, аграрной революции и экономическому подъему 31.
Все это не значит, что объем экономических ресурсов и возможности создания новых хозяйств не влияли на демографический тренд. Важно лишь не абсолютизировать их значения. Что же касается роли брака, который, по выражению Ж. Дюпакье, выступал в качестве «главного приводного ремня» в механизме демографической регуляции, то этот тезис представляется нам надежно доказанным. Как видим, представления о браке, модель брака и определяющийся ими уровень брачности оказывали на демографические процессы XVI-XVIII ее. почти столь же большое влияние, что и в предшествующие столетия.
Систематически повторявшиеся в XVI-XVIII ее. демографические кризисы обусловливали заметные колебания в численности французского населения. Его динамика, по образному выражению Э. Леруа-Ладюри, может быть уподоблена движению маятника. Согласно принятым авторами «Истории французского населения» оценкам, население Франции (в современных границах) составляло в середине XVI в. 19-20 млн человек. В конце XVI в. его численность несколько сократилась. В начале и середине XVII в. она вновь увеличилась — до 20-21 млн. человек. В начале 90-х годов XVII в. наступило новое сокращение (примерно на 1) — 15%). К 1700 г. французское население вновь возросло, достигнув 22 млн. человек. В дальнейшем в течение всего XVIII в. этот рост почти не прерывался: в 1720 г. — 22,6 млн. человек, в 1740 г. — 24,6 млн., в 1790 г. — 28,1 млн., в 1815-30 млн. человек.
Как видим, «маятниковая» динамика XVI-XVII ее. сменяется в XVIII в. стабильным ростом. Эта особенность XVIII в. тем более заслуживает внимания, что как раз в этом столетии особенно заметно увеличивается принятый возраст первого брака. Очевидно, в новых условиях — при заметном сокращении детской и общей смертности — демографическая регуляция с помощью повышения возраста первого брака утрачивает эффективность. Возникает объективная необходимость выработки иных форм поддержания демографического гомеостазиса. На сегодня остается не вполне ясным, каким образом эта объективная потребность была осознана французами. Вполне вероятно, что известную роль могли здесь сыграть те ограничения в формировании новых семей, о которых говорил по отношению к XVII в. Ж. Дюпакье. Однако только ли в этом было дело? Какие иные социальные и политические обстоятельства имели здесь значение? Насколько сказался растущий разрыв с традиционными родственными структурами? Как повлияло изменение идеологического и психологического климата, обострение психологической напряженности и неуверенности в будущем?
Пока что можно лишь констатировать, что во Франции XVIII в. (особенно после 1760 г.) распространяется новая форма демографической регуляции — внутрисемейное планирование рождаемости. О масштабах и значении этого феномена уже говорилось. Здесь стоит лишь добавить, что по своему социальному и демографическому резонансу это был глубочайший поворот в системе воспроизводства населения. Со времен А. Ландрн его принято именовать «демографической революцией» или более скромно — «демографическим переходом»33. В любом случае именно с этого времени (и только с этого времени) оправданно говорить о смене так называемого традиционного типа воспроизводства населения современным».
2. В раннем средневековье церковь придерживалась достаточно людоедского отношения к детям и родительским чувствам – детская природа греховна от рождения, любовь к детям сурово порицается даже у позитивных персонажей и пр. В этих условиях горячие проявления родительской любви источники фиксируют как у отцов, так и у матерей. Дальше, после утверждения церковной модели моногамного брака в 15-16 в., точка зрения церкви в этом вопросе меняется, она начинает учить прихожан чадолюбию, попрекать недостатком родительских чувств и пр. И одновременно женщины начинают жаловаться на растущие равнодушие отцов к детям.
«в учениях авторитетных раннехристианских ортодоксов — Августина, Григория Великого, Исидора Севильского — нетрудно встретить суровое осуждение детской природы. Ребенок грешен от рождения; его шалости, неусидчивость, непредсказуемость его действий — неизбежное следствие (и подтверждение) его греховности; даже первый крик новорожденного не что иное, как крик «высвобожденной злобы», отзвук первородного греха, довлеющего над каждым человеческим существом, включая и ребенка.
Эти высказывания были так или иначе связаны с оценкой брака, в котором ранняя церковь видела прежде всего повторение первородного греха. Неудивительно, что и детская судьба рассматривалась под этим углом зрения. Считалось, что в ребенке как бы отмщались грехи родителей. В соответствии с одной из древнейших догм Ветхого завета признавалось, что сын отвечает за отца. Даже рождение в браке не мальчика, но девочки истолковывалось в церковной доктрине (а позднее и в обыденном сознании) как кара родителям за нарушение сексуальных табу или иных церковных предписаний. Что же касается появления на свет больных, слабых или увечных детей, то оно воспринималось как возмездие за прегрешения предков не только в раннее средневековье, но и значительно позднее84. Этот подход предполагал, что ребенок не самоценность, но лишь средство «наградить» или «наказать» его родителей.
Подобное отношение к детям питалось и некоторыми римскими традициями. Как известно, римское право наделяло отца семейства чрезвычайно широкими правами по отношению к детям. Сохранение во Франции вплоть до VII в. римского правила налогообложения, предписывавшего фискальные взимания с каждого новорожденного, не могло не поощрять негативное отношение к ребенку, особенно у людей малоимущих.
Неудивительно, что проявления беспечности или даже жестокости родителей к детям зафиксированы многими рапнесредневековыми памятниками. В них констатируются умышленное убийство новорожденных, небрежность по отношению к ним, приводившая к придушению малышей в родительской постели, подкидывание детей, отсутствие должной заботы об их выхаживании*5. Даже делая скидки на риторические преувеличения в высказываниях раннехристианских писателей, невозможно только ими объяснить повторяющиеся пассажи о родительской беспечности. Пенитенциалий Бурхарда Вормсского предписывает исповеднику спросить у молодой матери, не клала ли она ребенка близ очага или печи, так что кто-либо вновь вошедший мог нечаянно обварить его, опрокинув кипящий котел с водой88. Аналогичным образом серия каролингских пенитенциалиев предполагает возможность непредумышленного и умышленного придушения детей в родительской постели, так же как и возможность со стороны матери прямого детоубийства87. (Характерно, что для малоимущей матери наказание в этом случае сокращалось вдвое; потребность в такого рода уточнении говорит сама за себя88.) Приходится допустить, что естественная привязанность родителей к детям могла в раннесредневековой Франции пересиливаться иными побуждениями, которые если и не обязательно приводили к эксцессам, тем не менее существенно снижали силу психологической установки на выхаживание ребенка.

Пьер д’Озье, военный судья и специалист по генеалогии, нанятый для проверки родословных французского дворянства
Это не означало, однако, общей неразвитости родительских эмоций. Те же раннесредневековые писатели, которые упрекали мирян за недостаточную заботу о детях, констатировали «любовь» к ним и родительское пристрастие, заставлявшие баловать ребенка, прощать ему шалости, забывать за мирскими заботами о наследниках о божественном. Каролингские авторы признают пылкую привязанность к детям даже у царственных особ и обсуждают, насколько она простительна и в каких случаях превращается в греховное чадолюбие 89. Дошедшие до нас редкие свидетельства о реальных взаимоотношениях родителей с их детьми с очевидностью говорят и о нежной любви к ребенку, и о горячем стремлении уберечь его от жизненных невзгод.
Характерны в этом отношении высказывания уже упоминавшейся герцогини Дуоды. В ее «Поучении…», обращенном к сыну, которому пришлось уехать заложником ко двору Карла Лысого, все материнские чувства и чаяния звучат с удивительной силой:
«Большинству женщин дано счастье жить вместе со своими детьми, я же лишена этой радости и нахожусь далеко от тебя, сын мой. Тоскуя о тебе, я вся переполнена желанием помочь тебе и потому посылаю этот мой труд…»
«Хотя и многое меня затрудняет и обременяет, первая моя забота увидеть когда-либо тебя, сын мой… Мечтаю, чтобы господь наградил меня этим… и в ожидании чахну…»
«Сын мой перворожденный, у тебя будут учителя, которые преподадут тебе уроки, более пространные и полезные, чем я, но ни у кого из них не будет столь горячего сердца, что бьется в груди твоей матери…»
«Смерть сыновей и дочери [Карл], при всей отличавшей его твердости духа, переносил недостаточно стойко и… не в силах был сдерживать слез… О воспитании сыновей и дочерей он проявлял такую заботу, что, находясь дома, не обедал без них никогда и никогда без них не путешествовал…».
См. также: Ронин В. К. Брачно-семейные представления в каролингской литературе… С. 98. 90 и т. д. и т. п.
Своеобразие поведенческого стереотипа состояло, следовательно, не в том, что люди каролингского времени были лишены родительских чувств, но лишь в их специфике: пылкая любовь к детям совмещалась с фатализмом, со смирением перед судьбой, с пассивностью в преодолении беды, грозившей ребенку. Отсюда и ослабление установки на выхаживание, а порой и пренебрежение родительскими заботами91. До некоторой степени это предопределялось неспособностью справиться со многими опасностями для ребенка и непониманием специфики детского поведения, в частности физических и психологических особенностей детства и отрочества. Известное значение имело также то обстоятельство, что при частых родах и не менее частых детских смертях родители не всегда успевали достаточно привязаться к новорожденному, достаточно ощутить его продолжением собственного «я».
…Косвенное подтверждение негативных тенденций в выхаживании детей в раннее средневековье можно видеть в постепенном усилении критического отношения к таким тенденциям со стороны церкви. Следует иметь в виду, что по мере изменения церковных воззрений на брак, эволюционировал и общий подход церкви к детям. Постепенно акцентировалась амбивалентность их социальной роли, в ребенке начинали видеть не только плод греха, но и воплощение невинности. Соответственно и в воспитательной доктрине церкви появлялись рекомендации развивать врожденные достоинства ребенка, проявлять к нему мягкость, видеть в нем «божьего избранника». См.: Riche P. Les ecoles et l’enseignement dans l’Occident Chretien. P., 1979. Одновременно церковные писатели все резче порицают родительскую жестокость
(«… pessima et impia… consuctudo pro qua plures homines sobolem suam interire quam nutrire non studebant». — Vita Bathildis//MGH. SRM, II, 488. Цит. no: Riche P. Education et culture dans l’Occident barbare. P., 1962. P. 506),
а церковные соборы принимают постановления, резко осуждающие невыполнение родительского долга.
«Чрезмерная» привязанность родителей к детям, наоборот, осуждалась церковными ортодоксами. Авторы XII-XIII ее. порицают ее с еще большей настойчивостью, чем это делалось в IX в., видя в ней ущерб всепоглощающей любви к Богу, и даже источник различных прегрешений.
«Дети приносят зло, — писал в конце XII в. рейнский епископ Этьен Фужер, обращаясь к простолюдинам. — Так как их надо кормить и одевать, родители становятся скупыми, решаются на обман, забывают о Боге» 81.
Хотя хорошо иметь детей, особенно когда они понятливы и знающи, говорит Фужер в другом месте, обращаясь к знатным, «противно смотреть» на матерей и отцов, которые доходят до безумия, целуя и обнимая своих отпрысков, и которые готовы ради них воровать и грабить, брать в долг и забывать о его возврате.
«Имеющие детей-наследников скопидомствуют… не имеющие же подают бедным… Графиня Гайрефорт… у которой все дети умерли, возносила за это Богу молитвы…» 82
Обычность подобных пассажей у церковных моралистов и проповедников XII-XIII ее. делает понятным пейоративную тональность их высказываний о детях вообще. Когда дети маленькие, читаем у светского автора середины XIII в., обращающегося к горожанам, они не дают родителям спать ночью, а днем надоедают тем, что необходимо постоянно заботиться об их кормлении; когда они подрастут, они носятся по улицам и приходится все время следить, чтобы они не попали под лошадь или повозку; когда они становятся взрослыми, то требуют от родителей богатого наследства и, кроме того, приходится расплачиваться за их долги в тавернах83. Еще резче пишет о детях Филипп Новарский:
«Малые дети грязны и надоедливы, когда же они подрастают — они становятся такими шалопаями и капризулями, что забота о них — не в коня корм…»
Вместо того чтобы следовать божественным примерам,
«они уподобляются бессловесным тварям — диким оленям, неразумным птицам и живут как животные».
Неудивительно, что «очень многие (trop grand quantite) дети — скверные, гадкие, с дурными наклонностями — неожиданно заболевают и умирают.
Касаясь этого вопроса, отметим, что анализ текстов подтверждает уже сложившуюся в медиевистике последних лет тенденцию отказаться от распространения точки зрения Ариеса на рассматриваемый период средневековья. Людям того времени отнюдь не была чужда ни материнская, ни отцовская любовь. Мы специально процитировали выше из числа «антидетских» высказываний церковных ортодоксов те, в которых заметнее разрыв между богословским назиданием и действительностью.
Как мы видели, епископ Фужер открыто признает существование матерей и отцов, «до безумия» любящих своих детей. Родительскую любовь и заботу о детях признают и другие авторы XII-XIII ее. Согласно Бомануару, случается, что дети до такой степени ненавидят мачеху, что их совместное проживание становится невозможным. Если в этой ненависти повинна сама мачеха, отцу детей следует куртуазно предложить жене «любить и почитать (aint — в некоторых рукописях: aide, aime — et honcurt) пасынков»; во всяком случае отец не должен соглашаться па удаление детей из своего дома, памятуя, что они и так уже с потерей родной матери утратили материнскую любовь (amour) и что его собственная любовь к детям (Гатоиг qu’il a vers ses enfants) не должна пропадать втуне88. Признает Бомануар и родительские чувства к незаконнорожденным детям. Он, в частности, оправдывает передачу им по наследству не только движимости или благоприобретенной недвижимости, но даже доли родового имущества8в. Это тем более показательно, что в конце XIII в., когда писал Бомануар, социальный статус незаконнорожденных в целом ухудшился 90.
Еще более, чем высказывания Бомануара, впечатляют некоторые житийные сцены. Вот как описывается купание св. Идой Лувенской являвшегося к ней маленького Иисуса: посаженный в таз с теплой водой, младенец,
«как все разыгравшиеся дети, хлопал обеими ручонками по воде и, как это свойственно младенцам, вертелся, плескался и брызгался, забрызгав все вокруг еще до того, как его успели помыть… Когда же купанье окончилось, Ида посадила его, обернутого в полотно, на колени и играла с ним нежно, словно мать».
Хотя в данном случае речь идет о дитяти Иисусе, очевидно, что вся сцена списана агиографом с натуры и что сам оп нисколько не сомневался в естественности и обычности материнской любви91. Такая любовь распространялась отнюдь не только на малышей: прощаясь с сыном, отправляющимся на поиски своей возлюбленной, мать принца Флуара
«успевает его сто раз поцеловать. Биенье в грудь, потоки слез и пряди вырванных волос — вот горьких проводов картина… Король в слезах…» 92.
«Безумную» любовь к детям матерей, отцов, дедов и бабок констатирует и Филипп Новарский, отличавшийся, как отмечалось, суровой оценкой детского «несовершенства». Несмотря на детские капризы и шалости, пишет этот автор, «любовь (Гатог) к детям со стороны тех, кто их воспитывает, особенно со стороны отца и матери, деда и бабки изо дня в день лишь растет и крепнет (croist et anforce toz jors)»9s. Из-за бед, которые, по мнению Филиппа, может натворить эта слепая любовь, он считает оправданным называть ее «смертной ненавистью»:
«Когда отец и мать готовы слепо выполнять любое желание своего чада, они, сами того не желая, воспитывают из детей гордецов, богохульников, воров и даже убийц…» 94
Не менее горячи родительские чувства и в крестьянской среде: ради спасения умирающего ребенка крестьянка готова на «грех»; отец умершего младенца в «слезах» заявляет, что потерял вместе с сыном «все, что имел» (ego perdidi omnia que habebam morto filii mei) 95.
В общем можно смело утверждать, что не только материнская, но и отцовская любовь к детям в XII-XIII ее. представляла непреложный факт.
…Одним из наиболее ярких выразителей церковной доктрины был в конце XIV — начале XV в. канцлер Сорбонны Жан Жерсон. Проблемы отношения к детям затрагиваются во многих его трудах, в том числе в проповедях, обращенных к достаточно широкой аудитории и произносившихся по-французски. Касаясь задач и методов воспитания ребенка, Жерсон не раз вспоминает собственное детство, которое он — выходец из крестьянской среды — провел в шампанской деревне. На первом плане у Жерсона, разумеется, воспитание благочестия и веры во всемогущество всевышнего.
«Мои благочестивые родители побуждали меня становиться на колени и, сложив руки, молить Бога о том, чего бы мне хотелось, например, о яблоке или орехе; и как только я возносил мою просьбу к небесам, мои родители роняли передо мной объект моих желаний… приговаривая: вот, сын дражайший, как хорошо просить Бога, чей промысел вознаграждает нас благодеяниями, как только мы об этом попросим»147.
И в этом, и в других примерах Жерсон проповедует подчеркнуто уважительный тон взаимоотношений родителей с детьми. Как он отмечает в одном месте, «родители должны быть достаточно добры к детям, избегая излишней суровости, но и не допуская излишнего баловства», ибо дети должны чувствовать себя любимыми. Целью родителей должно быть и душевное, и физическое здоровье ребенка, и потому матери еще во время беременности надлежит призвать на помощь Бога и святых. Мольбы к ним нужно продолжать и после рождения ребенка; но и сама мать должна делать все возможное, чтобы выходить младенца, выкормить его собственным молоком.
Заботиться о детях, на взгляд Жерсоиа, надлежит но только их собственным родителям. Канцлер Сорбонны обращается к светским властям и всем, кто связан с воспитанием подрастающего поколения, с призывом защитить детей и всю молодежь от недостойных сочинений и иных форм дурного влияния. Он считает, что всякий философ или пастырь, сколь бы ни было высоко его положение, не должен гнушаться непосредственного участия в воспитании детей. Ибо в век схизмы именно дети, по мысли Жерсона, смогут осуществить реформу церкви, в них — будущее 151.
В этой концепции Жерсона, помимо традиционной для церкви заботы о благочестивом воспитании подрастающего поколения и помимо звучавшего уже, например у Филиппа Иоваррского и Рамопа Луллия, признания важности для судьбы детей того, чему и как будут их учить, есть и некоторые новые моменты. Отметим прежде всего подчеркивание общественной значимости детского воспитания и его влияния на судьбы мира. Не случайно, как отмечает Франсуаза Бонней, отзвук идей Жерсона слышится в социально-педагогической доктрине иезуитов152. Пожалуй, еще важнее, что Жерсон фактически отказывается видеть в детских пороках или физических недостатках детей следствие грехов их предков. Вместо этого у него на первый план выдвигается мысль об ответственности воспитателей, от которых зависят и физические, и моральные достоинства детей.
…Изменение отношения к детям видно и по некоторым похоронным обрядам. С XIV в. во Франции возрождается обычай совместных семейных захоронений. И хотя этот обычай побеждает, как уже отмечалось, далеко не сразу, весьма поучительно, что уже в XIV в. на некоторых семейных надгробиях вновь появляется фигура ребенка, отсутствовавшая на них почти тысячу лет56.
Все это указывает на определенное изменение подхода к ребенку в церковной доктрине: в ней усиливается акцент на ответственности самой церкви, общества в целом и особенно родителей ребенка за его земную судьбу. Не случайно, традиционное для раннесредневекового христианства истолкование библейской заповеди о почитании детьми родителей как завета, не предполагающего каких бы то ни было обязательств самих родителей перед детьми, также начинает видоизменяться. В осмыслении богословами этой заповеди появляется идея взаимных обязанностей родителей и детей друг перед другом157. Все эти доктринальные изменения вряд ли могли складываться вне взаимосвязи с переменами в обыденном сознании паствы.
Еще более определенно, чем в церковной теории и практике, формулируется идея ответственности родителей за здоровье и воспитание ребенка в светской литературе конца XIV-XV ее. Так, Э. Дешан в обширном «Зерцале брака» вкладывает в уста «доброй жены» такое назидание для «юных дев»:
«Если бы вы только знали, каково это [в заботе о детях] не спать с мужем… Ведь детей надо кормить грудью и неотступно следить за ними… Их надо нежненько запеленать, убаюкать, подмыть, ублажить;, носить их [на руках], петь им песенки и развлекать… И позаботиться о хорошей кормилице… Если бы вы знали, каково мне, когда я вижу ребенка больным, когда у него болит животик и мучает понос, и никто не может ему помочь. И какая боль пронзает мне сердце, когда он страдает от того, что у него режутся зубки… Решительно никого из смертных не может мать любить сильнее, чем своего ребенка» 158.
Рассказ о материнских эмоциях периода младенчества детей продолжается в «Зерцале брака» перечнем «страхов», которые приходится испытывать матери, когда ребенок начинает ходить. Ведь надо уследить,
«как бы дети не упали в воду, не ударились, падая на землю, не попали в огонь».
Отдельная забота, чтобы дети «научились хорошо говорить». А если дети окажутся в городе, их поджидают
«сто тысяч опасностей со стороны свиней, лошадей, зверей, повозок, карет. И так до 7 лет» 159.
Столь же подробно описываются в «Зерцале брака» и других сочинениях Дешана родительские заботы о старших детях. Либо попутно, либо специально поэт упоминает о том, что именно приходится делать родителям, чтобы обеспечить физическое здоровье и должное воспитание своим отпрыскам. Надо «содержать большое хозяйство», чтобы кормить детей хлебом, виноградом, молоком, сыром, мясом; надо топить комнаты углем, иметь кровати, покрывала и простыни.
«Когда же дети подрастут, их надо учить и воспитывать, обучать обычаям, наукам и искусствам».
Ведь никто из знати не должен в молодости уклоняться от изучения семи свободных искусств, а также древнееврейского, греческого, латыни. Только после этого можно думать о приобретении рыцарского звания.
Отдельная задача родителей — обеспечить дочерей и сыновей необходимым имуществом, в частности, деньгами, обстановкой, владениями в городе и деревне 162.
Судя по стихам Дешана, пи его самого, ни его читателей никак нельзя заподозрить в «равнодушии» к детям или же непонимании ответственности родителей за жизнь и здоровье детей. Особенно конкретно воспроизводит Дешан материнскую любовь и материнские заботы. В некоторых пассажах заметен намек и на то, что, на взгляд матерей, отцы должны больше беспокоиться о здоровье своих детей, особенно малышей, чем это обычно бывает.
«Они [опасности, грозящие детям] не трогают наших мужей. И даже, когда дети заболевают, если я попрошу мужа отнести ребенка к св. Фульхерию или св. Христофору ради его спасения и излечения, муж будет лишь недоволен мною и велит мне не приставать к нему» 163.
В общем родительские заботы обрисованы Дешаном столь реалистично, что сомневаться в их соответствии жизненной практике невозможно. Видимо, современники Дешана и в самом деле тратили на выхаживание и воспитание детей большие усилия. Могло ли это не сказаться на мере выживания детей, по крайней мере в «нормальные» годы?..
3. Само понятие семьи у раннесредневековых людей неустойчиво, расплывчато и, в общем, отсутствует. Хотя мужчины и женщины живут вместе, ведут домашнее хозяйство, воспитывают детей и пр. эти горизонтальные ячейки не воспринимаются как «малое общество», главная арена социализации, место какой-то эмоциональной близости между участниками. Главные связи в обществе – вертикальные, родовые, и в соответствии с их требованиями «горизонтальные» ячейки переформатируются и разрушаются. Понятие о семье как особой ячейке общества возникает лишь с началом устойчивого роста численности, в 16-18 вв.
«Не ограничиваясь сопоставлением роли малой («простой», «супружеской», «нуклеарной») и большой («многоячейной», «неразделенной») семьи, следует исследовать своеобразие самого феномена семьи в каролингское время. Это, в частности, означает, что надо выявить представления о семье как таковой, свойственные современникам, и роль этих представлений в реальной действительности.
К сожалению, решить эту задачу весьма непросто. Конечно, своеобразие раннесредневековой семьи по сравнению с новоевропейской предположить нетрудно. В общей форме такое своеобразие признавалось многими специалистами. Намного сложнее это своеобразие конкретизировать. Здесь мешает, во-первых, трудно преодолимый стереотип нашего собственного мышления, подспудно толкающий к истолкованию феноменов прошлого в рамках известной нам понятийной сетки, что побуждает неосознанно «подтягивать» характеристику таких феноменов к их современным аналогам. Второе же препятствие — чрезвычайная скудость каролингских источников, в которых практически игнорируется понятие семьи.
Разумеется, составители дошедших до нас памятников по раз упоминают о супружеских парах, их детях, об имуществе, которым они владеют, об их наследственных правах, о местах их проживания и т. п. Однако по крайней мере до XI в. в высказываниях современников не удается найти попыток осмыслить эти супружеские ячейки как некие специфические родственные структуры или же вообще как образования sui generis. Так, составители полиптиков IX в., фиксирующие одну или несколько супружеских пар на каком-либо земельном держании, обходятся при их описании простым перечислением: «isti duo», «isti tres», «omnes isti», «isti» и т. п. При этом может сообщаться, кто является чьим мужем или чьей женой, от какой женщины прижиты те или иные дети, живет ли здесь кто-либо из старших родичей и пр. Но совокупность всех этих людей никакого обозначения не получает 1Я8. Аналогичным образом поступают авторы частных актов. Перечисляя зависимых (или свободных) крестьян, живущих на передаваемых владениях, контрагенты сделок упоминают «hii qui ad ipsum pertinent*, «heredes», «sui omnes», «homo uxor et m-fantes»129. Понятия, объединяющего членов каждой из этих ячеек, у составителей актов опять-таки не находилось.
И в полиптиках, и в грамотах крестьян объединяют, кроме того, по признаку совместного проживания или совместного выполнения каких-либо повинностей; такие группы крестьян обозначаются как focus, ignis, domus или же una carruca, unus man-sus, curtis и т. д. Можно не сомневаться, что каждая из таких групп включала одну или несколько супружеских пар. Однако и в этом случае понятие, осмысливающее единство каждой такой ячейки, не всплывает.
Нет такого понятия и в памятниках, касающихся знати. Характерные для нее родственные структуры, как уже отмечалось, отличались в VIII-X ее. особым многообразием. В основе их лежали разные формы родства по отцовской и материнской линиям. Внимание, которое уделяли современники таким родственным объединениям, свидетельствовало об их высокой социальной роли,30. Ячейка же, складывавшаяся на основе брака, и здесь как бы игнорировалась. В отличие от этого в применении к крестьянству, так же как и по отношению к знати, современники не затруднялись в обозначении родственных структур, основывавшихся на происхождении от общих предков. В различных памятниках можно встретить упоминания о крестьянских progenies, genus, prosapia, parentella. Состав таких групп мог быть достаточно широким, в них включались подчас и весьма отдаленные, давно умершие родичи131. На этом фоне понятийное игнорирование супружеских объединений, создававшихся ныне живущими людьми, оказывается особенно поразительным.
Не объясняется ли оно тем, что в представлениях современников все «таксономическое пространство», отводимое для родственных структур, было как бы заполнено структурами, базировавшимися на общности происхождения их членов? Иначе говоря, не следует ли считать, что «родовое сознание» до такой степепи доминировало пока еще в умах людей, что им представлялось немыслимым поставить на одну доску кровнородственные и брачные структуры?
В пользу этого предположения, помимо приведенных фактов, говорит и эволюция понятия «familia». В рассматриваемый период, как и во времена классической латыни, оно в первую очередь подразумевало совокупность лиц, живущих под одной крышей, либо объединение людей, подчиненных некоему конкретному собственнику, или же население, зависимое от какого-либо верховного господина.
Ситуация изменяется лишь в XI в. В эту более позднюю эпоху совместно проживавшие люди — будь то родственники по происхождению, будь то члены супружеской ячейки — начали рассматриваться как familia; параллельно стали исчезать терминологические различия при обозначении кровных родственников и родственников по браку 13. Видимо, в представлениях современников статус и авторитет брачного союза поднимается в то время до уровня, присущего кровнородственным группам. Это и создает в более позднее время базу для осмысления супружеской ячейки как одной из полноправных родственных структур.
Такой перелом произошел не вдруг. Он постепенно подготавливался спонтанным укреплением престижа брачных структур в предшествующее время. Следы этого процесса в источниках IX-X ее. видны там, где супружеская ячейка выступает в качестве обособленной домохозяйственной единицы (владея, например, отдельным держанием), или же в качестве самостоятельного юридического субъекта (приобретая и отчуждая имущество), или же как средоточие специфических родственных связей (обеспечивая преемственность между родителями и их детьми). Своеобразие периода IX-X вв. состояло, однако, в частности, в том, что подобная «автономия» супружеской ячейки не стала пока ни полной, не повсеместной. Как отмечалось выше, многие супружеские пары входили в качестве составных частей в те или иные многоячейные родственные структуры. (В этих случаях их обособленность как бы перекрывалась включением в более обширные и более авторитетные родственные сообщества). Там, где прямая их интеграция в такие сообщества отсутствовала, последние могли сохранять свое влияние по традиции134. Сходным образом родственные связи между родителями и детьми в большей или меньшей мере могли как бы «растворяться» среди традиционных кровнородственных связей по отцовской или материнской линиям.
В общем брачные ячейки каролингского периода, выступая в качестве одного из субъектов хозяйственных, юридических и родственных отношений, испытывали пока что мощную конкуренцию со стороны кровнородственных ячеек. И поскольку до XI в. ни в одном из аспектов брачные структуры еще не стали эквивалентными по престижу кровнородственным (или тем более доминирующими), трудно говорить о завершении процесса формирования семьи как ведущей родственной, домохозяйственной и юридической ячейки в одно и то же время. Взятая в этом смысле семья находилась еще в стадии становления. Естественно, что это придавало определенное своеобразие нормам демографического поведения внутри супружеской группы. Начиная с отношения к детям, отметим, что они были предметом внимания не только их собственных родителей, но и более-широкого круга кровных родственников. Это отнюдь не обязательно означало усиление заботы о каждом ребенке. Могло быть и наоборот. С родителей как бы снималась полнота ответственности за жизнь их отпрыска; эту ответственность, по крайней мере частично, принимал на себя род в целом; он же считал себя вправо определять судьбу ребенка в экстремальных обстоятельствах, ограничивая до некоторой степени родительские права.
Когда, например, герцогиня Дуода родила своего второго сына, сподвижники и близкие ее супруга поспешили увезти младенца подальше от дома, не сообщив матери даже имени, которым его нарекли36. Это было сделано исходя прежде всего на соображений политических: близкие Бернгарда — мужа Дуоды — опасались, что Карл Лысый, против которого бунтовал тогда Бернгард, захватит новорожденного как заложника и свяжет этим своих противников. По поводу судьбы младенца существуют разные предположения137. В любом, однако, случае ясно, что для окружающих он был не только (или даже не столько) сын Дуоды и Бернгарда, но и член некоей родственной и вассальной группы, которой заботы о здоровье ребенка представлялись делом второстепенным по сравнению с реализацией ее социально-политических планов.
В чем-то сходная ситуация складывалась, по-видимому, в любом многосемейном крестьянском домохозяйстве, испытывавшем недостаток рабочих рук. Интересуясь благополучием домохозяйства в целом, его члены, как мы видели, не всегда способствовали выхаживанию молодыми матерями новорожденных, особенно если дело касалось девочек. В обоих приведенных случаях родители были до некоторой степени скованы в своих заботах о детях, ибо супружеская семья и ее конкретные интересы еще не приобрели самодовлеющего характера. В то же время признание за кровнородственной группой возможности влиять на судьбу детей, как и передача такой группе части ответственности за них, усиливало у самих родителей настроение фатализма в отношении к детям.
Нечто аналогичное легко предположить по поводу отношения членов семейной ячейки к больным, немощным, старым. Известная «разомкнутость» семьи мешала возникновению внутри нее эмоционального климата, способного стимулировать должный уход за этими людьми. Соответственно не было необходимых условий и для интенсивного самосохранительного поведения. Таким образом, своеобразие семейной организации в каролингскую эпоху накладывало свой отпечаток на демографическое поведение и определенным образом сказывалось на режиме воспроизводства населения.
4. Утверждение церковной модели брака (моногамного, нерасторжимого и единственного) началось с 12 в., когда он стал таинством, а статус единственно правильной она завоевала к 15 в., всё прочее разнообразие форм половых союзов, признаваемых и одобряемых обществом, стало «неправильным» или «нелегальным». Это привело к различным последствиям: с одной стороны, резко выросла проституция, участились изнасилования одиноких женщин группами молодых мужчин, по разным, обычно экономическим причинам не дотягивающим до «законного брака», на то и другое власти смотрели сквозь пальцы. С другой стороны, церковный брак укрепил социальное положение знатных дам, за счёт лучшей охраны их имущественных прав, уменьшил приниженность женщин в этом слое по сравнению с предшествующим периодом. В т.ч. уменьшилась – хотя и не исчезла вовсе – риторика об изначальной греховности женщин, с отсылкой к историям из Писания. И если в предшествующую эпоху обязанность жены подчиняться мужу считалась бесспорной, то в эту появились первые голоса, ставящие вопрос об условиях и границах этого подчинения, в т.ч. из среды первых учёных женщин.
Автор доказывает, что брака (= «единственно верной» формы такого союза, которую учитывают церковные и светские власти, в церемонии заключения которой они участвуют, и т.д.) в ту пору ещё (и уже) не существовало, и даже учёнейший аббат Сугерий называл браком помолвку своего господина, хотя дело расстроилось, и невеста даже не выехала из поместья. В жизни простолюдинов брак ассоциировался прежде всего с соитием, с последующей совместной жизнью, а не с церемонией и вытекающими из неё правами и обязанностями. Наблюдалось разнообразие форм половых союзов — суаньтаж, конкубинат и др. до утверждения в обществе модели церковного брака (которая, как пишет автор, в раннем Средневековье утверждалась трудней всего).
Филипп Бомануар в принесших ему известность «Кутюмах Бовези» писал:
«Много споров возникает между детьми одного и того же отца, который имел нескольких жён. При этом обсуждается, кого именно надо считать законным наследником, а кого нет, так как он рождён в плохом браке и является бастардом».
Такими бесспорно «плохими» союзами Бомануар считает сожительство замужней женщины и женатого мужчины. Их дети незаконнорожденные в полном смысле слова, не имеющие никаких формальных прав на наследование. «Плохие браки» вызывают осуждение не только церкви, но и «общественного мнения». Они имеют место, например, в тех случаях, когда благородная замужняя женщина «телесно близка» со многими мужчинами («что становится известным, когда видят, как они разговаривают и встречаются»).
Рождённые этой женщиной дети считаются законными, поскольку не исключено, что они рождены от законного супруга, но из-за таких греховных связей может статься, что брат женится на сестре, не зная об этом. Так случилось, например, после смерти некоего барона, который имел детей от своей жены и одновременно от другой замужней женщины. Столь же «плохим» называет Бомануар случай, когда барон имеет в доме, кроме жены, ещё и другую женщину «на виду и на слуху у соседей». При такой ситуации жена может требовать отделения от мужа.
В отличие от таких явно нетерпимых ситуаций Бомануар констатирует наличие и иных, гораздо менее однозначных. Это касается прежде всего тех супружеских отношений вне церковного брака, которые в дальнейшем – после смерти одного из законных брачных партнёров – получают церковное освящение. «Некий мужчина имел ребёнка от замужней женщины, с которой он был в отношениях «суаньтаж». После смерти мужа этой женщины он сделал её своей законной супругой. Если их ребёнок родился во время их законного брака или же был зачат (или родился), когда женщина уже стала вдовой, он считается законнорожденным. В отличие от этого ребёнок, зачатый или родившийся, пока эта женщина была супругой другого, не является законным».
Под понятием «суаньтаж» Бомануар в приведённом пассаже подразумевает супружеский союз холостого мужчины с замужней женщиной. Дети от такого супружества, даже если они родились до его оформления в церкви, могут считаться законными. Соответственно и самоё супружество типа «суаньтаж» оказывается в числе признанных и дозволенных не только с точки зрения «общественного мнения», но и светского права.