
Статья иллюстрирована картинами самого известного художника-романтика Каспара Давида Фридриха. «Гибель надежды во льдах»
Любой более-менее образованный человек знает, что исторически либерализм и национализм – идеологии не антагонистические, а родственные. Родственные даже в большей степени, чем либерализм и социализм. Родство это видно невооруженным глазом при рассмотрении стереотипов, унаследованных советской наукой, создававшейся или историками-социалистами, или учеными, мимикрировавшими под социалистов.
Яркой чертой советского взгляда на историю был акцент на национальной стороне вопроса – что довольно забавно смотрелось на фоне декларируемого интернационализма [ещё забавней — на фоне деклараций примата классового подхода. Здесь и далее прим.публикатора]. Под таковым акцентом я понимаю не русско-советский патриотизм как таковой – он был обусловлен скорее ситуативными нуждами государства – а акцент на «национально-освободительной борьбе» и «формировании национальной культуры» того или иного народа, от финнов до зулусов [вместо взаимодействия, связей и влияний между регионами, обществами и т.д., которые и формируют «народ», «культуру», а в пределе — и общественный строй]. Это вполне вписывается в вышеупомянутый дискурс.
С позиций национализма, нация – примордиальная конструкция, существующая испокон веков, и история – это история наций. С точки зрения либерализма (даже не затрагивая тот момент, что первые либералы обращались к националистической риторике) для истории важно «освобождение», в том числе «национальное освобождение» – формирование национальных государств на месте феодальных владений. Под этим предлогом причине, например, Вудро Вильсон поддержал создание национальных государств в Восточной Европе – что залило её кровью и принесло в Европу фашизм.
Для марксиста, несомненно, национальное государство – более передовая система, чем феодальное владение. Но история знает и примеры, когда конгломерат феодальных владений (к примеру, Нидерланды) мог за счет более высокого уровня «базисного» развития опережать большинство национальных государств Европы. Да и само понятие нации (даже если не подходить к нему с позиций радикального конструктивизма) менялось со временем – Данте, рассматриваемый нами как итальянский патриот, грезил о всемирной монархии и возлагал свои надежды на германского императора Генриха VII.
Затрагиваемые мною проблемы советская историография старалась обходить, иногда прибегая к просто фантастическим интеллектуальным кульбитам. Нидерландская «революция» объявлялась «национально-освободительной» — хотя нидерландской нации не существовало вовсе. Священная Римская империя считалась заранее исторически обреченной, хотя до XIII века по уровню централизации и развития она превосходила ту же Францию; в том же ключе рассматривалась многонациональная монархия Габсбургов, история которой также знала немало успехов и передовых общественных преобразований.
Когда говорят о националистических тенденциях в советской историографии, обычно делают акцент на представлении истории России как вечного противостояния с внешними врагами, мечтающими её не просто победить, а уничтожить – но это как раз было всего лишь проекцией на русскую историю в целом отношения империалистических держав к СССР. Куда более тревожным симптомом является советская историческая традиция, посвященная так называемому «Натиску на Восток» («Drang nach Osten»).
С точки зрения марксизма, очевидно, что наряду с классовой борьбе существует борьба и внутри самого господствующего класса, раздираемого противоречиями. Иногда такая борьба лишена идейного оформления (войны феодалов друг с другом), иногда – наделена им (крестовые походы, джихад). В СССР любая экспансия немецких феодалов в восточном направлении, будь то князья империи (иногда – вчерашние полабские язычники!) рассматривалась как проявление некого антиславянского «натиска на восток».
Нетрудно указать на слабые места подобной доктрины – религиозные конфликты (крестовые походы на полабских славян и балтов) смешиваются с чисто политическими (столкновения с Русью и Польшей) и неизменно подаются в национальной окраске; игнорируются случаи, когда «немцы» и «славяне», противопоставляемые в рамках этой модели, систематически выступают заодно. Любопытно, между тем, что списать появление такой исторической аберрации чисто на соображения пропаганды невозможно.
Во-первых, в годы оформления панславистского дискурса в СССР (1941-1945 гг.) во многих славянских странах (в Польше, Чехии, Югославии) существовало мощное коллаборационистское движение, а другие славянские страны (Словакия, Болгария) воевали на стороне Оси. Во-вторых, после Второй мировой войны в советский блок (ОВД) вошел и ряд неславянских стран – Румыния, Венгрия, Албания, ГДР, а со вполне себе славянской Югославией у Сталина возник продолжительный и весьма острый конфликт.
По сути, такое восприятие «Натиска на Восток» является реминисценцией уже чисто националистической концепции «борьбы славянства и германства». Вместе с тем, видно тут и (лево)либеральное представление о «благородном дикаре», которого хотят поработить представители порочной и жестокой «цивилизации» — хотя в действительности чисто колониальный характер «Drang nach Osten» имел разве что в Прибалтике, она в советской историографии сознательно была наделена именно таковыми чертами.
Другой яркий пример преемственности советской историографии с либерально-националистической – взгляд на вопросы религии. Раннее христианство подавалось ещё Энгельсом как чуть ли не революционное движение (против чего в наши дни всё больше и больше аргументов) – в продолжение давней традиции интерпретации Христа как революционера. Наоборот, организованная церковь позднего христианства – особенно церковь католическая, достигшая наивысших успехов в создании церковной бюрократии, которую немецкий политолог Карл Шмидт называл «целибатной» – всячески обличалась.
Особенно показателен пример католической церкви. Либералу она, несомненно, антипатична иерархичностью и претензиями на монополию на истину; националисту – наднациональностью и «оторванностью от почвы, от народа». Не стоит забывать и о том, что дух эпох Просвещения и романтизма формировали во многом религиозные группы, враждебные католицизму – масоны, янсенисты и протестанты, но это лишь частность, поскольку в советской историографии схожее (пусть и не столь негативное) отношение имело место и применительно к институциализированной православной церкви.
Между тем, стоит помнить, что именно организованная, институциализированная церковь играла важную роль в образовательной системе Средневековья и Нового времени, а также внедрении римского права (была она и одним из немногих социальных лифтов тех лет). Тогда как протестантские секты в католической Европе и их аналоги в России нередко были (даже не говоря о их агрессивном фанатизме, что в религиозную эпоху – просто норма) носителями идеологии крайнего социального консерватизма и реакции; германские лютеране и их отец-основатель тут – один из ярчайших примеров.
Частью «советского фёлькише-дискурса» было и восприятие деятелей культуры и искусства как будто бы экзистенциально прогрессивных и незримой пуповиной с абстрактным «народом», понимаемым, опять-таки, де-факто в духе «фёлькише», пусть и замаскированном марксистской риторикой. Образцовый пример тут Пушкин – который в советской мифологии из просто блестящего поэта, обогатившего русскую литературу, превратился в нравственный и идеологический эталон, в опусканием всех подробностей его жизни, неприглядных в бытовом или идейном плане; то же было проделано в СССР с рядом видных деятелей культуры не только русского, но и ряда других народов. [Осуждённый, а потом ликвидированный «вульгарный социологизм» был куда историчней, и просто информативней для интересующихся]
Таким образом, советский «фёлькишизм» выражается не только и не столько в советском патриотизме и культе достижений русского народа, как принято считать, сколько в общей концепции истории всемирной, частью которой является история СССР и России. И советский «фёлькишизм» перекликается – а вовсе не исключает, как принято считать – с остаточным влиянием на советский марксизм либеральной историографии.
 P.S. публикатора
P.S. публикатора
Это верно не только для советских марксистов — так, книга Ф.Меринга об истории Германии 1924 г. содержит исключительно сильное влияние Трейчке и других «патриотов». Советский марксизм эту опасность осознавал и пробовал освободиться: интересно проанализировать, почему же не получилось.
Как я уже писал, СССР предлагал самоопределение наций «ленинское», противостоящее «вильсоновскому», чтобы культурный прогресс каждой из них, сокращение разрывов и устранение отсталости не связывалось с ростом ненависти к «чужакам» и «врагам» ни в реальности, ни в декларациях. При всех буржуазных «рождениях нации«первое неразрывное связано со вторым, и оба требуют друг друга, чем оно и отвратительно.
Соответственно, «красные профессора», вновь подготавливаемая революционная интеллигенция должна была давать марксистское понимание истории и культуры, свободное от националистических мифов, умолчаний, передёргиваний и т.д. неправды, о формах которой шла речь выше. Т.е. кроме собственно развития культуры своего народа (будущее) и реалистического понимания его прошлого и настоящего перед марксистской интеллигенцией каждой нации ставилась борьба в первую очередь со «своим» национализмом («своей» буржуазной интеллигенции — где она успела сформироваться). Зачем так? потому что всякая «слава нации» — советской, увы, в т.ч., не говоря уж о «русской», «украинской», «азербайджанской» и т.д.- связана с систематическим отклонением от исторической истины, что описано выше, а марксизм это прежде всего хорошая наука. Как писал М.Н.Покровский:
«история есть наука конкретная, и вся ценность «исторического подхода», на котором так настаивал Ленин, состоит именно в учете непосредственно фактической стороны дела. Чем лучше мы знаем факты, тем точнее будет наша формулировка и тем увереннее будет практический метод наших действий. По мере все более и более близкого знакомства с фактами, отношение к тем или другим деталям не только может, но и должно меняться. Кто вздумал бы, на основании предвзятой точки зрения, навязывать истории то, чего не было, погрешил бы сразу и против ленинизма, и против исторической науки. Иначе, впрочем, и быть не может, поскольку ленинизм и требования строгого научного метода вполне совпадают».
Поэтому буржуазная интеллигенция с националистической мифологии кормится и её культивирует, либеральная и собственно националистическая равным образом, а советская не должна.
Наиболее важные задачи здесь решали республиканские общества историков-марксистов. Российское, как и союзное, возглавлял наш великий историк М.Н.Покровский. Его идеи которого чем дальше, тем больше «имеют тенденцию подтверждаться» в современных работах по миросистемному анализу, генезису европейского капитализма и пр. В т.ч. данные о примате «дальних» взаимодействий и межрегиональных связей над местным развитием в становлении капитализма, дифференциации и сопряжённости развития Запада и Востока Европы и пр.
Будучи поставлен партией руководить, как говорили тогда, на историческом фронте, Михаил Николаевич имел административные рычаги, и немалые. Судя по его революционной, моссоветской и наркоматовской деятельности, он умел ими пользоваться, но здесь полагал это неправильным. Как показывает А.Л.Юрганов в анализе обсуждения совисториками происхождения русского национального государства (на эту проблему проецировались политика и проблемы тогдашнего СССР), он руководил сообществом историков-марксистов именно так, как принято в научном сообществе (как сказали бы позже, по нормам «научного коммунизма» Р.Мертона, но тогда его труды по социологии науки ещё не родились, см. главу 1 книги). В этом кругу он всерьёз выслушивал каждого, даже аспиранта, позволял с собой спорить и спорил на равных, независимо от чинов и регалий, академических и партийных, и пользовался лишь убеждением.
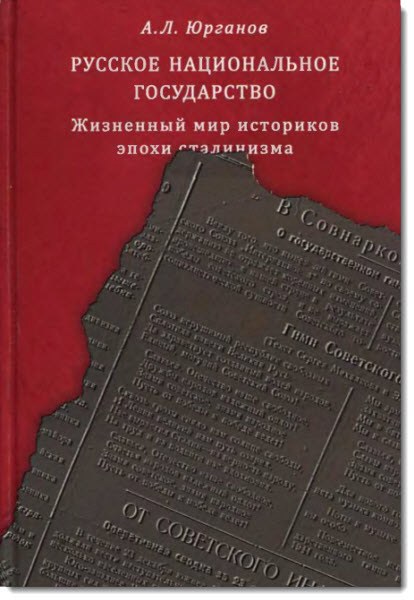 В конце 1920-х выяснилось, что это было ошибкой. Отнюдь не все общества историков-марксистов были готовы искоренять «свой» национализм. Русское, скажем, было готово, а украинское — отнюдь нет, фактически продолжая развивать левонационалистическую традицию «своей» истории типа Грушевского, перелагая её «коммунистическим» языком. На требование же Покровского следовать политике партии и его объяснения, почему так выходит ошибочно, активисты этого дела (Яворский, потом Рубач и пр., с.31-46 книги) вместо аргументации научного характера обвиняли критиков в великодержавном шовинизме. И вместо того чтобы заниматься наукой и реализовывать политику партии, Покровский им вежливо отвечал, хотя надо было власть употребить.
В конце 1920-х выяснилось, что это было ошибкой. Отнюдь не все общества историков-марксистов были готовы искоренять «свой» национализм. Русское, скажем, было готово, а украинское — отнюдь нет, фактически продолжая развивать левонационалистическую традицию «своей» истории типа Грушевского, перелагая её «коммунистическим» языком. На требование же Покровского следовать политике партии и его объяснения, почему так выходит ошибочно, активисты этого дела (Яворский, потом Рубач и пр., с.31-46 книги) вместо аргументации научного характера обвиняли критиков в великодержавном шовинизме. И вместо того чтобы заниматься наукой и реализовывать политику партии, Покровский им вежливо отвечал, хотя надо было власть употребить.
И когда он помер, товарищ Сталин с присущим ему прагматизмом (что облегчал управление, но шёл неизменно во вред делу) решил задачу борьбы с местными национализмами, в т.ч. русским, не через научные данные и убеждение ими, но через тихонечное возрождение «государственной школы», где история Российской империи рассматривалась как предпосылка и предтеча советской. Юрганов показывает, как он и другие члены Политбюро постепенно приучали историков (или они сами приучались к такой — неоправданной — реакции специалистов, процесс явно был обоюдным, как всякое воспитание) искать у них идеологического ответа на каждый конкретный исторический вопрос, вместо того чтобы искать его самим своими профессиональными методами. Скажем, что раньше возникло, «централизованное» государство или «национальное», централизовывала власть или рынок и пр. — к Иосифу Виссарионовичу и другим носителям власти историки обращались как оракулам, начиная с известного письма 1927 г. студентов Красной профессуры Цветкова и Алыпова Сталину (с.44).
Почему к оракулам? Решения политруководства, хотя вроде бы касались конкретики, были неясны до момента вынесения (в смысле непредсказуемыми из уже известного историкам) и оставляли проблему в подвешенном состоянии — почему ни одна дискуссия между «марксистами» и «патриотами» в 30-50-х гг. не была разрешена. Вкупе с «патриотическим» одержанием конца 1940-х гг. эта неопределённость заставляла историков писать х…ню и выслушивать ещё большую от разного рода лифшицев с аджемянами.
Причём всё это шло именем «марксизма» и под его знаменем (хотя журналы «Историк-марксист», «Красный архив», «Борьба классов» и т.д. после войны так и не были возобновлены. Неудивительно, что после развенчания культа личности историки, более чем советские и коммунистические, возрождать дореволюционные школы (при всей чуждости их классовых основ, силой которых вполне профессиональный ак.Тарле на совещании 1944 г. стакнулся с совершенным уж шизиком Аджемяном против марксистов), поскольку 15 лет подряд с «марксизмом» связывалось нечто и неопределённое, и не очень научное. Подход же «школы Покровского» был стигматизирован, не все решались им пользоваться даже нелегально (только лучшие, например, А.А.Зимин, см. «Россию Ивана Грозного»).
Теория же, как капитал, может быть удачно вложен, а может быть и промотан, из-за выбора не лучшего подхода партии к управлению научным сообществом. Последний не скорректировали и после 1956 г., когда из огня бросились да в полымя. Что постепенно губило теорию и вело к нарастанию бытописательства, окончательно торжествовавшего после 1991 г., вместе с совсем уж откровенной лженаукой.














