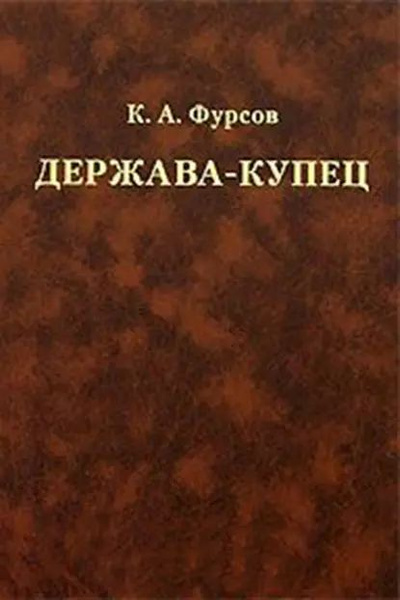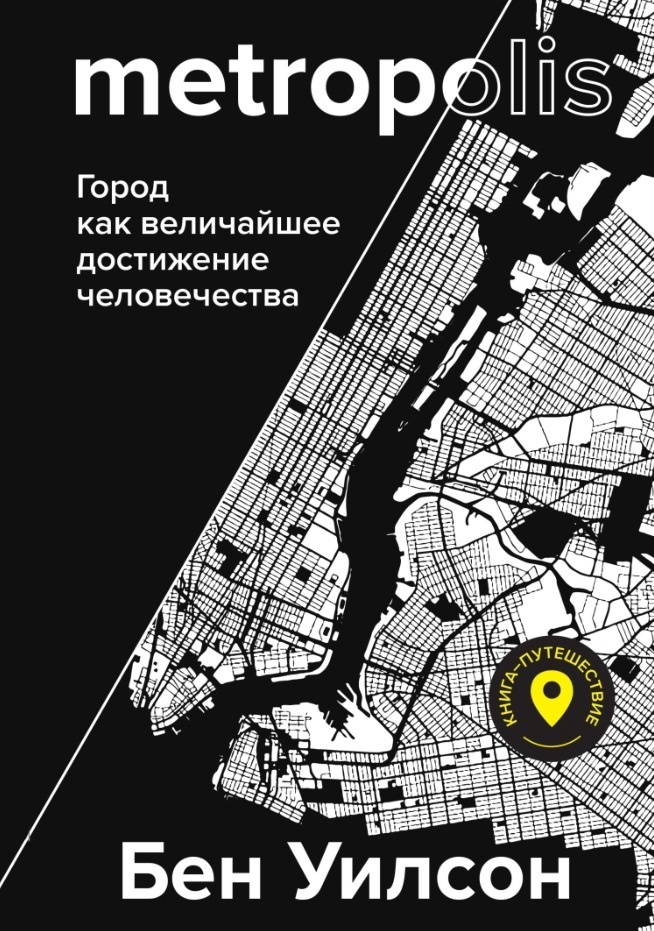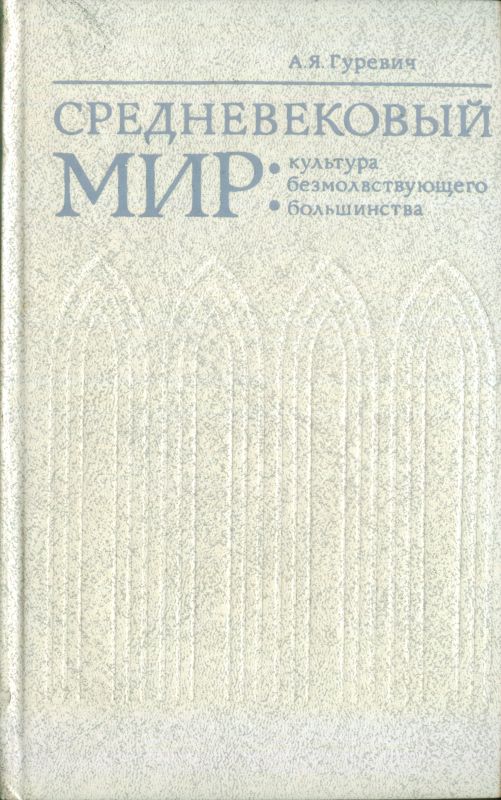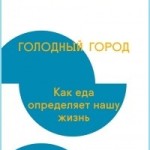«Крот истории» роет самый тяжёлый путь
Самое страшное и невыносимое в ходе истории — при наличии альтернатив она всегда выбирает самый тяжёлый, грязный, кровавый путь, с наиболее медленным прогрессом, и максимуиом жертв, хотя в последние 300 лет лучшие варианты были более или менее ясны тем акторам, что боролись за них.
Скажем, в 1917 всё социалисты могли бы примкнуть к большевикам и/или Учредительное собрание могло признать советскую власть и одобрить декреты II съезда Советов. У правых, от кадетов др черносотенцев, тогда бы не получилось развязать гражданскую, и Брестский мир бы не был похабным: вначале белые были февралистами, защитниками учредилки и восстановителями Восточного фронта против немцев. Но случилось то что случилось: большевиков поддержали лишь те единицы среди членов других социалистических партий, для кого строительство нового общества были важнее парламентского кретинизма и формальной законности, у кого не было выученной беспомощности, столетиями культивированной высшими классами (цензовыми слоями, как их называли в России, противопоставляя их демократии = простолюдинам). Но нет, большинство тех же партий бросило страну в костёр гражданской — и заверте….
Другая альтернатива — ужасов средневековья, с его дикостью, грязью, невежеством, инквизицией можно было избежать. Были примеры другого, светлого средневековья, с терпимостью, с усвоением результатов античной науки задолго до Возрождения и движением вперёд. В христианском мире это провансальская цивилизация, уничтоженная французскими крестоносцами во время альбигойских войн; в мире ислама и, шире, в Юго-Восточной Азии — торговые города муссонных морей, быстро развивавшиеся с опорой на технику и знание, ещё в 16-17 веке опережавшие Европу по производству — пока их не уничтожило оружие колонизаторов: португальцев, голландцев, французов, англичан.
«В 1697 году мануфактуристы указывали, что ввоз индийских тканей ставит под угрозу занятость 250000 английских рабочих [Barber, 1975, p.50]. Кстати, сейчас 60% населения района Спрингфилдс — выходцы из Бангладеш: бенгальские ткачи взяли исторический реванш у английских…
В экономическом отношении Индия (к началу английской колонизации) была одним из самых развитых регионов.
Плодородные почвы давали 2-3 урожая в год, а развитое ремесло почти полностью удовлетворяло потребности региона. В международной торговле Индия занимала центральное положение, производя в 16-18 вв. более ¼ мировой продукции [Washbrook, 1988, p.60]. Главной статьёй экспорта Индии были шёлковые и хлопчатобумажные ткани, находившие спрос далеко за её пределами. Экспорт из Индии тканей (200 видов) в одну только Европу достигает в 17 в. 60 млн.м3 в год <…>. Если учесть, что доля Европы в общем экспорте Индии составляла около 14% <…>, её производственная мощность в то время впечатляет…
[Заключив договор с назимом Гуджарата в 1612 году, Томас] Бест отметил тогда, что «индийцы не имеют морского флота а, значит, на море находятся во власти (at the mercy) всех наций: тем не менее с размахом ведут морскую торговлю и очень богаты [Voyage of Thomas Best, 1934, p.50]. Вывод английского капитана очевиден: пограбить их весьма легко и выгодно».
К.А.Фурсов. Держава-купец: отношения английской Ост-Индской компании с английским государством и индийскими патримониями. М.: Т-во научн.изданий КМК, 2006. С.65, 79, 82.
Это, наконец, периферийная Босния, где мирно существовали еретики из близкой к богумилам Црква босанска, православные и католики. Правда, за это жители платили «боснийским рабством«: хотя христианам нельзя иметь рабов-христиан, боснийцев ловить и порабощать было можно (обычно в связи с организованными против них крестовымим походами), поскольку еретики мирно жили в их среде. Торговля боснийцами шла через католический город Дубровник.
Здесь, как и во всех таких случаях история пошла по пути, наихудшему для ширнармасс. Несколько утешает, правда, что это иллюстрация верности марксизма, конкретно — марксистского решения основного вопроса философии: материя первична, сознание вторично. Хотя социальный прогресс понятен и легко доказуем на уровне идей (в том числе крайняя необходимость уничтожения капитализма и строительства социализма), многим начать действия в данном направлении мешают материальные обстоятельства, включая усилия высших классов по культивированию не пускающих предрассудков. Как говорил Маркс, мёртвый хватает живых.
Наконец, становление городской цивилизации, с письменностью и высокой культурой, позднее пришедшей к истории, философии и науке, могло бы идти в рамках бесклассового общества, или при минимуме социального неравенства, Хараппская цивилизация показывает как:
«…что, если существовала городская цивилизация, с самого начала свободная от пороков и грехов других городских обществ? Археологи обнаруживали – и до сих пор находят – остатки как минимум одной такой культуры.
На территории свыше миллиона квадратных километров в современных Пакистане, Афганистане и Индии были открыты более 1500 поселений. Продвинутые города и поселки располагались в стратегически важных местах на торговых маршрутах; они служили домом пяти миллионам человек, а центрами были пять главных метрополисов: Хараппа, Мохенджо-Даро, Ракхигархи, Дхолавира и Лотхал, все с населением в десятки тысяч. По имени первого города цивилизацию именуют Хараппской, время от времени Индской. Только в 1920-х стало ясно, насколько велики масштабы этой культуры; с того времени было найдено много всего, но наши знания все равно неполны и обрывочны[47].
Хараппцы добывали золото, серебро, жемчуг, раковины, олово, медь, сердолик, слоновую кость, ляпис-лазурь и многие другие ценные материалы в пределах Индийского субконтинента и Центральной Азии. Они славились сложными и красивыми ювелирными украшениями и металлическими изделиями, которые обрабатывали с выдающейся аккуратностью. Купцы из Хараппы отправлялись в Месопотамию, чтобы открывать там магазины. Цари и придворные, боги и элита таких городов, как Аккад, Урук, Ур и Лагаш, страстно желали украшений, изготовленных в мастерских долины Инда, а еще они были не прочь получить оттуда диковинных животных, ткани и изящную посуду из глины. Процветание месопотамских городов-государств совпало с периодом быстрого строительства городов в долине Инда, который начался около 2600 года до н. э. Торговцы Хараппы определенно привозили домой рассказы о фантастических городах, в изобилии выросших на берегах Тигра и Евфрата. Урбанизация стала тем, что можно заимствовать. Города вроде Хараппы и Мохенджо-Даро возникли, чтобы удовлетворить потребность в роскоши со стороны развитых обществ Междуречья[48].
Но искатели приключений, пересекшие океан, ходившие по улицам Урука и Ура, привезли домой замысел, а не образец. Хараппцы жили в постоянных поселениях с хорошо построенными домами и наслаждались разнообразием дикой и культивированной пищи. Речная система Инда, подобно системам Тигра и Евфрата, Хуанхэ, Нигера и Нила, производила значительный излишек зерна. У ее обитателей имелись продвинутые технологии, письменность и ремесленная специализация. Но самым важным было то, что раскинувшееся на огромной территории общество объединяла система верований, регулировавшая общественные отношения. Если даже хараппцы позаимствовали идею городов из рассказов тех, кто побывал в Месопотамии, первые города Индии были целиком и полностью плодом местной культуры и изобретательности. Во многом они превосходили поселения той же эпохи в Китае, Междуречье и Египте. Археологи пришли к заключению, что в Мохенджо-Даро могло обитать до ста тысяч человек, что делало его крупнейшим городом бронзового века и самым технологически инновационным местом на Земле в ту эпоху[49].
Но по разительному контрасту с другими крупнейшими цивилизациями бронзового века города Хараппы не имели дворцов или храмов, никаких величественных зиккуратов или пирамид; само собой, нет признаков того, что существовали цари или жрецы. Большие общественные здания имелись, но они были скромными, без и несли совершенно гражданские функции: хранилища для зерна, склады, залы для собраний, бани, рынки, сады и доки. По всей видимости, не было рабства, и вряд ли существовало сильное общественное расслоение: городские дома не демонстрируют разнообразия в размере и убранстве.
В то время как города-государства Месопотамии очень быстро скатились к череде бесконечных братоубийственных конфликтов, к полноценному разрушению конкурентов и строительству империй, их современники из долины Инда не могут похвастаться оружием, кроме охотничьего. Не было найдено изображений воинского снаряжения, и археологические следы не говорят нам о битвах. Схожим образом нет никаких признаков правителей или сложной, развитой бюрократии.
Города Хараппы сильно опередили свое время в том, что касается инфраструктуры и гражданского строительства. Главные города были подняты над уровнем наводнений с помощью колоссальных платформ из кирпичей; на создание той, что в Мохенджо-Даро, по оценкам, ушло четыре миллиона рабочих часов. Основные магистрали, пересекающиеся под прямыми углами, образовывали паттерн шахматной доски, ориентированный по сторонам света. Они делили города на жилые кварталы, где имелись более узкие улицы и многоэтажные строения. Стандартизация простиралась от плана улиц до размера и вида домов, и даже до размера кирпичей. Имелись также общественные мусорные баки. Но самой примечательной чертой градостроительства Индской цивилизации, вершиной ее славы, была система канализации.
Забудьте о величественных строениях, что вздымались над крышами простых домов. Самый важный аспект Мохенджо-Даро лежал ниже уровня улиц. Мало что символизирует уровень развития общества, чем та серьезность, с которой город управляется с дневным тоннажем человеческих фекалий. Строители городов в долине Инда рассматривали эту проблему в первую очередь. В каждом доме имелся смывной туалет, и это в III тысячелетии до н. э., хотя того же самого нельзя сказать о некоторых районах Пакистана сегодня, через четыре тысячи лет. Того же нельзя было сказать и об индустриальном мегаполисе XIX века в Европе: у обитателей трущоб в Манчестере в 1850-х был один общий туалет на сотню человек. Только в середине того же столетия два самых могучих города мира, Лондон и Париж, начали заниматься санитарией в приемлемом масштабе. В Хараппе и Мохенджо-Даро смывные воды из домашних туалетов через терракотовые трубы попадали в трубы большего размера под улицами, ну а те приводили к коллекторам под главными проспектами. Они были сделаны под уклоном, чтобы гравитация вытягивала жидкие отбросы за пределы городских стен. Туда же сливалась грязная вода из комнат для омовения, которые имелись в каждом доме.
Чистота не следовала за благочестием, она и была благочестием. Сила воды, ее способность очищать душу была центральным пунктом религиозной системы. Обитатели Мохенджо-Даро и других городов наслаждались душем, который устраивался в специальном водонепроницаемом помещении. В центре этого метрополиса лежал бассейн, он имел размеры 12 метров на 7 и был 2,4 метра в глубину, первый в своем роде на Земле; вероятнее всего, он служил в качестве общественного места для омовений. Города не имели храмов. Скорее сам город – или его инфраструктуратура из цистерн, колодцев, дренажных труб и бань – составлял храм воды.
Новые свидетельства говорят, что урбанизация Хараппы определялась серией адаптаций к изменениям климата. Когда города на Инде переживали расцвет между 2500–1900 годами до н. э., окружающая среда все время оставалась непредсказуемой: реки перемещались, уровень осадков изменялся. Поэтому поиск новых способов получать и хранить воду, а также поиск новых злаков для введения в рацион стали ключевой чертой урбанизации этого региона. Города были спроектированы так, чтобы сопротивляться окружающей среде, которая становилась все более сухой и жаркой[50].
В городе Дхолавира, находящемся во враждебной пустыне, была разработана продвинутая система сохранения воды. Сеть дамб направляла излишек воды от ежегодных муссонных наводнений в шестнадцать прямоугольных, выложенных камнем резервуаров. Там вода оставалась во время долгих сухих месяцев, и акведуки доставляли ее в город или на поля для орошения. Муссонная дождевая вода также собиралась в цистерны на возвышенности, откуда гравитация позволяла опускать ее на уровень улиц по мере необходимости. В Мохенджо-Даро были вырыты по меньшей мере 700 колодцев, чтобы получить доступ к грунтовым водам. Когда их обнаружили совсем недавно, выяснилось, что они в отличном состоянии[51].
Сложную систему водопользования необходимо было поддерживать ценой жизни и смерти. Города были построены на основе заранее спроектированной гидравлической системы; но в терминах идеологии они покоились на основе священного уважения к воде и отвращения к загрязнению. Торговые успехи в комбинации с продвинутым гражданским строительством, без сомнения, сыграли важную роль в создании мирного, равноправного общества.
Месопотамские города – сколь бы они ни были впечатляющими – не могли похвастаться столь мудрым планированием, им не хватало водопровода и централизованной канализационной системы. Только римляне – через две тысячи лет после расцвета Хараппы, – смогли превзойти эту цивилизацию по уровню градостроительства.
В городах Хараппы было полно детей, поскольку археологи находили множество игрушек. В своем рационе хараппцы использовали разнообразные продукты и приправы, включая чеснок, имбирь и куркуму. Обследования скелетов показали, что разные люди этого общества питались одинаково хорошо; ничего удивительного, что ожидаемая продолжительность жизни была высокой. Одежда тоже была достаточно качественной: самые древние пряди хлопка происходят из этих городов[52].
Мохенджо-Даро и Хараппа предлагали фантастически высокий стандарт жизни не только в терминах своего времени, но и вообще на все времена. Кого бы не привлекли упорядоченность и чистота такого общества? Возможно, эта цивилизация на самом деле и есть забытая утопия, пропущенный поворотный пункт в нашем путешествии по дороге урбанизации. Может быть, Эдемский сад был на самом деле городом, местом, где наши потребности удовлетворялись, а наша безопасность была обеспечена не самой большой ценой.
Города в долине Инда были покинуты около 1900 года до н. э. Нет признаков какой-либо катастрофы, вторжения чужаков или эпидемии. Обитатели по собственной воле ушли из поселений, и этот шаг к деурбанизации оказался столь же мирным и утопическим, как сама урбанизация. Муссоны начали слабеть, сдвигаясь на восток, огромные мегаполисы, которым требовалось много зерна и много воды, не могли существовать в новом климате. Вместо того чтобы сражаться за жизнь и уменьшающиеся ресурсы, население городов распределилось на маленькие сельские общины, одновременно началась миграция в сторону долины Ганга. Лишенная кислорода городской жизни, письменность вышла из употребления. Сами города исчезли в песках надвигающейся пустыни, которая похоронила секреты на многие века».
Бен Уилсон. Метрополис. Город как величайшее достижение цивилизации. М.: Эксмо, 2021. С. 68-75.
 Про корни и ствол
Про корни и ствол
В контексте разговора с коллегой, желающей отделить “хорошее в православии” от “треша”, выдаваемого на-гора прт.Чаплиным, свщ. Дм.Смирновым и прочей клерикальной реакцией, понял что не так с расхожими мнениями про “христианские корни Европы” или “православные корни русской культуры”. Историческое развитие диалектично, работает закон отрицание отрицания, новизна не появится без нарушения преемственности. Поэтому «корни» — это скорее то что из прошлого продолжается и сейчас, а не то что сохранилось, более или менее отринутое, из предыдущего этапа.
В этом смысле наша российская культура конечно, имеет не христианские, а советские корни: всё что вокруг, от зданий и инфраструктуры до сложных вещей в быту, научных/философских концепций, стало доступно массовому человеку (стало обычным достоянием масс) именно и только в советский период, до того большая часть населения жила, мягко говоря, иначе. А сутью советского периода в духовном смысле было в том числе отрицание религии, борьба с ней на основе научных знаний, которыми хотели вытеснить и заменить сверхъестественное, и во многом успешно.
Если же, тем не менее, «христианские корни» нам настолько значимы, что мы хотим их акцентировать невзирая на 70 лет разрыва преемственности и отрицания (в том числе потому что такова идеология момента) возникают еще две проблемы, одна философская другая практическая. Первая — насколько полно и далеко в глубь времени мы должны обращаться к традиции?
Ведь «христианские корни» существуют не сами по себе, а вместе с корнями крепостничества, рабства, самодержавия, пресмыкательства перед разного уровня господами и прочим, засвидетельствованным в истории и нашей страны и стран Европы. Ведь когда эти «корни» были «стволом» и «ветвями», т. е. религиозность была чистой, ещё не была ограниченной, подавленной и переработанной Просвещением и/или советским обществом, она вообще не предполагала никакой этики, добра любви, мира и прочее что сейчас (ошибочно) связывается с религией. Это хорошо показал наш крупнейший медиевист А.Я. Гуревич в книге «Культуре безмолвствующего большинства» (с. 138-139).
«…что поражает современного читателя и, видимо, по-своему поражало и средневековую паству, — это их обидчивость, мстительность, склонность к вспышкам гнева. Они [Христос, богоматерь и святые в средневековых exempla] бьют и даже умерщвляют непокорных и обидчиков.
Таково нередко поведение Христа. Сойдя с алтаря, Распятый нанес удар в челюсть монаху, который уснул на ночной молитве, так что на третий день тот скончался (10, IV, 38).
В другом примере Распятый, разгневанный тем, что звонарь кельнской церкви не оказывал ему должного почтения, однажды ночью явился ему и с бранью прибил. Об этом чудесном и ужасающем событии стало известно в городе, и распятие было окружено еще большим почетом (10, VIII, 25). Знатная вдова, запятнавшая себя греховной связью с юристом, не вняла уговорам и угрозам Христа, который ей явился, и он умертвил сперва ее родственницу, затем дочь, а в конце концов огненными вилами выколол ей глаз (6, № 449)».
(Понятно, что в прочих религиях есть точные параллели.
“Нравы в [еврейских] общинах [Литвы и Белоруссии] были строгими, и всякое вольнодумство немедленно пресекалось [речь идёт о хасидах, вовсе не атеистах]. Допустившего прегрешение могли подвергнуть позорному наказанию — поставить в «куну». Это были вделанные в стену железные кольца, в которые замыкали шею и руки провинившегося, и сохранились жалобы с тех времен, где пострадавшие описывали, как их «посадили на цепь, избили и истрепали…».
Феликс Кандель. Очерки времён и событий. Очерк третий).
Т. е. в отличие от нас люди в эпоху, когда вера была настоящей, обнимающей всю полноту бытия (а не бэджиком национальной принадлежности и созданного ею милитарного рвения, как сейчас), на первое место ставили не совсем мораль, но богопочитание, или почитание святых. Его нарушение каралось жестоко – столь же жестоко, как непочтение смерда перед господином. И если мы почитаем exempla — типовые примеры правильного поведения, то видим, как эту жестокость проявляют и Христос, и Богоматерь, и святые.
Я думаю, именно это настоящая вера, у современных людей, даже считающих себя верующими, она сильно «разбавлена» гуманизмом, секуляризмом и прочим просвещением. Ибо нет ничего тоталитарнее истины – если ею владеешь, хочется внушить её всем, а религиозные истины в отличие от научных, никак нельзя рационально доказать. Остаётся только обман и насилие: поэтому всякий рост религиозности опирается на них и их использует.
И наоборот: полагать, что «религия учит добру и нравственности» есть интеллигентский предрассудок последних 100 (в Европе 200) лет. И распространяется теми из интеллигентов, кто от религии «своего народа» далёк, но по причинам политического порядка считает важным её поддерживать (из национализма, чтобы противостать «красной опасности», из желания сохранить «традиционные ценности», из ложной веры, что «без религии не будет нравственности» и т.д. — заблуждений множество).
И неприятные нам обоим гг. Чаплин, Смирнов etc. сильны тем, что обращаются к «корням» во всей их полноте: всякий человек, которому религиозность дороже всего остального видит что именно у них она настоящая. Попытки же совместить христианство/любую другую религию и человечность, веру и современную свободную жизнь этому сразу проигрывают как нечто разбавленное и поддельное, “сладкий сиропчик” из нравственных прописей.
Поэтому есть серьёзные основания полагать, что добрые намерения про «христианство это одно, а трэш другое» не сработают, они были связаны в истории и восстановятся вновь, как только религиозность поднимется достаточно высоко. Эта беда и случилась в Иране, где аналоги Чаплина и Смирнова легко оседлали народную религиозность именно потому, что она была высока, и дальше смогли всё общество заставить вернуться к “корням” во всей их полноте, от массовых (и публичных) казней до права мужа бить жену и наказаниям за «нескромность» до недавнего предложения смертной казни за «пропаганду наготы или непристойности», куда включается и неправильное ношение хиджаба.
К этому стоит присмотреться внимательно, ибо современный Иран, как и сгинувшая царская Россия — идеал для отечественных клерикалов (или арабский мир, где криминализованы и атеизм, и переход из ислама в другую веру, даже в самой прогрессивной стране, Тунисе). Поэтому я сказал коллеге: полагаю, вы или потратите время зря или, если (да сохранит нас бог от этой беды) подобные усилия будут успешны, они приведут к результату, который вам не понравится. Рад был бы ошибаться, конечно.
![Критические заметки по философии истории Print PDF «Крот истории» роет самый тяжёлый путь Самое страшное и невыносимое в ходе истории — при наличии альтернатив она всегда выбирает самый тяжёлый, грязный, кровавый путь, с наиболее медленным […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2025/03/mole-391x190.jpg)